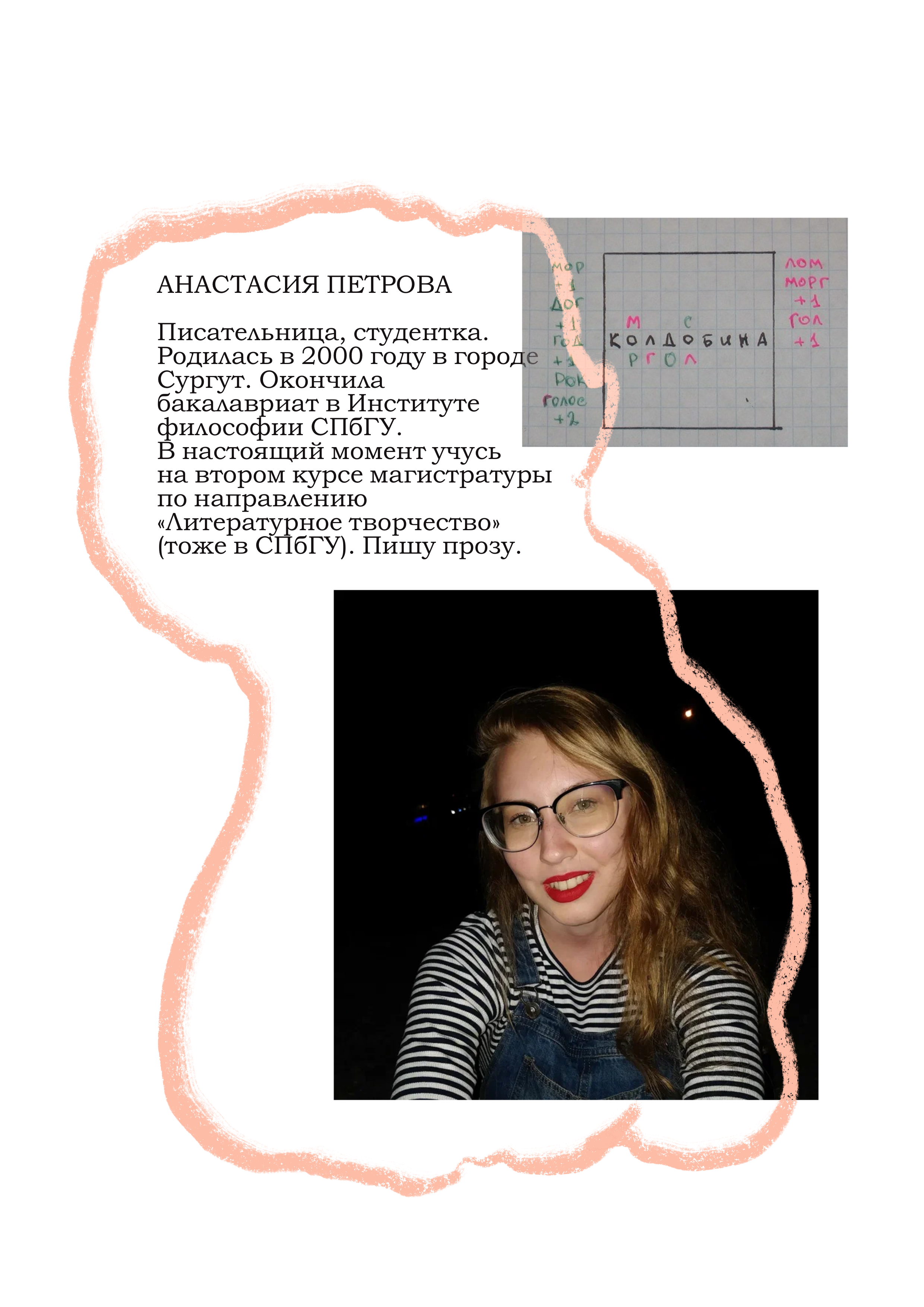
Из аудиторий мы вытекаем единым протоплазменным потоком — хлипкие деревянные двери с желтыми ручками не удержат внутри ни капли первичного бульона. Мы заполняем коридоры шумом и жизнью, качаем на вихрастых волнах пыльные скамейки, плещемся о бледные стены, лижем взглядами фрески на стенах. Чужие ветхие лица смотрят на нас с осуждением: им, рамочным, не справиться с нашим новорожденным варварством: они уже разучились говорить, а мы — не узнающие ни Соловьевых, ни Розановых, ни Бердяевых без цитат — еще даже не обрели языка. Наше бессвязное бормотание и угуканье размывают резные рамы молчаливых портретов.
Лестничный пролет выглядит как пещера Альтамира, еще не облагороженная наскальной живописью. По ее одиноким стенам ползают солнечный змейки и летают совы Минервы. Мы же рождены течь — наши кудрявые затылки проплывают под сталактитом люстры, закручиваются в лестничный водоворот — и затем бурно срываются вниз по ступеням. Под нашими ногами камень становится мокрым, соленым и скользким.
Внизу болтливый океан растекается на два потока. Один, ведомый теплым течением, заворачивает в новую пещеру, и там, у южных берегов столовой, из него выползает на сушу клан обедающих-после-пар. Другой, холодный, рвется вперед, к северным турникетам, где на дождистую улицу выходит уже прямоходящее племя курящих. Оно успело на ходу изобрести огонь и французский постструктурализм — ливень едва справляется с их воркованием: бегло-картавые «дискурсе» и «ресатима» переплетаются с сигаретным дымом, коптятся в нем и потом все равно мокнут под тучами. Знаки никогда не были такими мутными.
Я застаю торжество осевого времени собственными глазами — пока временно примыкаю к немногочисленному, но пространственно растянувшемуся клану стоящих-в-очередь-в-туалет. Там я достаю расческу-скребло, несколько секунд удивленно ее разглядываю, а потом неловко провожу пальцем по зубчикам. Раздается тонкий переливчатый треск — первая услышанная мной с лета нескорбная музыка, первая ананасная увертюра после реквиемной кутьи. Я вспоминаю, что все поминки рано или поздно заканчиваются: внутри песочных университетских стен, увешанных портретами призраков, смерти не существует, и мой отец здесь не окоченевший труп, не пища для червей, а только лишь слово. Он, конечно же, все равно мертв, но при этом жив — как жив Гераклит, плачущий снаружи дождем; Сократ, о котором напоминают растущие у рек цикуты; Платон, застрявший в шелесте страниц «Пира». Я поедаю их глазами, ушами и разумом. Кости достались кладбищенской земле, но пусть она ими подавится — мне же потом на этой земле и стоять. Топтать ее двумя ногами и двумя руками высаживать на ней яблони: удобренная почва дает обильный урожай.
Когда я возвращаюсь к своим южным соплеменникам, они уже успешно превратились в Homo sapiens, поедающих не сырую, а вареную пищу. Я с гордостью замечаю, что им даже удалось отвоевать себе подходящий ареал обитания: стол — круглый, как солнце, и несколько стульев.
— Быстро вы! — бросаю на ходу я, и острые слова, прямо как мой рюкзак, попадают точно в цель — аккурат в хромоногий стол. Из кармана выпадает мужской платок — отцовский след. Во рту становится горько, как от перезрелого яблока. Я хмурюсь и заталкиваю платок обратно.
— Изобрели разделение труда: один занимает место, другой очередь, — хвастается мой друг, видимо, уже Homo economicus. — И, кстати, с тебя, эксплуататора, зарплата!
Мои соплеменники выглядят довольными и одновременно уставшими, будто и правда только что вылезли из «Капитала». Их красные подносы полны цивилизованной версии мамонта. Я прошу у буфетчицы рыбу, но получаю шишкоподобно склеенное мясо. Побежденная, со вздохом возвращаюсь к племени, и когда одинаковые пожарские котлеты исчезают в наших одинаково голодных ртах, все мы враз понимаем, что вдобавок мы еще одинаково бесполы и несчастны.
— Что у нас случилось? — с ножом-рубилом в руке спрашиваю я, ощущая, как печальное настроение клана захватывает меня в тиски.
— А ты не слышала? — многозначительно приподнимает брови соплеменник Павел. Он — самый цивилизованный из нас — умеет правильно держать нож и вилку. А еще он носит на шее шарф, так что временами его можно спутать с французом из клана курящих. Впрочем, это почти правда: недавно вымершим летом Паша принял твердое решение бросить курить и был вынужден сбежать из родного табачного клана к нам, вечно голодным дикарям. Эту издевательскую манеру отвечать вопросом на вопрос он унаследовал от прошлых друзей. Наше племя милостиво прощает ему этот грех.
— Как видишь, нет, — вилка в моей руке с визгом проезжается по тарелке.
— А ты глянь туда, — Артур, мой преданный соклановец по буфету, всегда вовремя приходящий на помощь, кивнул головой в сторону Загадочного Аутсайдера — звезды потока, отказывающейся примыкать к какому бы то ни было племени. Завербовать его не смогли ни курильщики — которые, положа руку на сердце, были среди всех прямоходящих факультета высшей кастой интеллектуальной элиты, — ни библиотечные мыши (чем они занимались в этой книжной тюрьме с камерами для сумок, мы не могли даже представить), ни туалетные номады, ни даже кофеприхлебатели, блуждающие по коридорам. Аутсайдер нарушал все принятые территориальные разделения и негласные табу: пил кофе, как настоящий кофеприхлебатель, но не в коридоре, а в столовой, и при этом читал книги — но почему-то на улице, где по старой традиции полагалось пускать дым и томно облокачиваться на колонны.
Так, пусть Аутсайдер и примыкал географически к нашему клану, он всё же никогда не садился с нами за стол. Вот и сейчас он занял в одно тело целый угол — только вопреки обыкновению не читал и не кофеприхлебывал, а просто пялился в одну точку.
— Не понимаю, — покачала головой я.
Мимо моих глаз резко пролетели коричневые рукава и красный поднос — это Илья порывисто ворвался в наш лагерь.
— Сплетни и без меня? — деловито уселся он, не сразу схватывая настроение племени. — Кстати, Артюша, тебя твой Мерлин спрашивает.
Артур, чувствительное сердце, застонал, обмяк и тут же сполз по спинке стула куда-то вниз. Его ботинки ткнулись в хромые копыта стола, все мы зашатались галопом. Землетрясение заставило компот в моем стакане выйти из берегов. Розовая лужица облепила стеклянные стенки и слилась цветом с красным подносом. Запахло цикутой.
— Я больше не хочу с ним писать, — ныл Артюша, уткнув лицо в ладони. Очки он бросил на стол, дужка попала в тарелку. — Это невыносимо. Но он такой добрый, как ему откажешь.
С летних каникул Артур вернулся жутко счастливым — у нас всех аж зубы сводило от его подсвеченного энтузиазма. Он торжественно сообщил всему племени, что нашел свой философский камень и теперь собирается превратить всю прошлую словесную нержавейку, по воле деканата называвшуюся курсовыми работами, в золотой диплом. Ради этой цели он разбудил спящее на кафедре истории философии вековечное дерево: оно помахало Артуру сухими ветками — и расцвело. С тех пор вот уже несколько недель Артур исправно посещает Семена Константиновича, садится с ним за круглый кафедральный стол, ищет в книжном шкафу святой Грааль в твердом переплете и слушает — по его собственным словам — о Салтыкове-Щедрине, Федорове и том, как много общего у сирени с юностью. После таких симпозиумов мы обыкновенно находили Артюшу сидящим в темном углу с глазами на мокром месте.
— Скукота, — признавался Артур. — Но он такой добрый и… ну, старый, что мне его жалко. Вот и сижу.
И разводил руками. Его философский камень оказался обычной медью — вроде той, что обрела субъектность, приняв жуткую личину Петра I. Бессмертие опять откладывалось.
Обычно наше племя сочувствовало Артюше. Но сегодня все мы были заражены какой-то фатальной мрачностью, и потому могли только тактично отвернуться от него, жалко свернувшегося на стуле.
— Так что же, кому успели кости промыть, пока я вкушал пищу духовную? — продолжал Илья, разрезая свою порцию пожарских котлет.
Все мы знали, что любимая духовная пища Ильи — это Хайдеггер в переводе Бибихина. А с началом осени Илья вдобавок снова прикипел душой к Розанову: каждый раз, выходя на улицу, он наступал на сухие листья и повторял те же самые слова: «Вот листья физические — красные, желтые, всякие, и в голове у меня такие же, и тоже опавшие».
— Ты ужасный сплетник, — заметил Паша. Сытый, он покачивался на гнедом стуле и задумчиво следил за движениями наших вилок.
— Да, я такой. Gerede — сладчайшее, — расплылся в сахарной улыбке Илья. Кажется, немецкий он учил только ради того, чтобы иногда сравнивать русского Хайдеггера с оригинальным.
— Ты некрофаг, ты ешь мертвечину, — невпопад продолжил Паша, с прищуром вглядываясь в содержимое чужой тарелки.
— Ты тоже, — Илья отложил в сторону нож. Он, казалось, заинтересовался.
— Я тоже, — кивнул Паша. Его лицо приняло нечитаемое выражение, обычно предшествовавшее или серьезной речи, или очередной постироничной байке. — А наши предки были каннибалами. Адельфофагия, — он многозначительно поднял палец, — вот чем нам надо заняться. Особенно в свете недавних событий.
— Да что там произошло-то, скажите уже, — заворчала я. Для усиления эффекта ткнула Пашу в плечо. Он не растерялся — ответил на физическое насилие насилием словесным:
— И вот наглядное доказательство, прошу вас быть свидетелями. Человеческая жестокость, хищничество во плоти. Ты, быть может, латентный суперанимал, вроде Распутина или Петрова-Комарова. Доешь мою котлету?
И протянул мне шмат мяса, наколотый на вилку. Я отказалась.
— Ты Диденко начитался? — мрачно прогудел воскресший Артур. — Ни слова больше об этом щедринофаге.
И снова закопался в ладони. Но он опоздал: после зловещих слов Паши пожарские котлеты больше не выглядели невинными.
— Это что, сама Жанна д’Арк к нам пожаловала? — переключился Паша, глядя куда-то нам за спины. Мы обернулись. Между столами лавировала Аня, целеустремленно направляясь в нашу сторону. На ее голове встревоженно краснела бандана.
— Ну? — в один голос промычал наш клан, встречая долгожданную соплеменницу. Она уже издалека разводила руками:
— На комиссию, шагом марш, — бодро подтвердила наши опасения Аня, на ходу хватая свободный стул — людей в столовой становилось все меньше. Мы синхронно подвинулись, освобождая ей место. — Честно слово, лучше бы руку на коленку — и то не так обидно было бы.
— Вообще никак? — поморщились мы.
— Тя-го-мо-ти-на, — вздохнула Аня. — Сначала билет спросил — а там Соловьев, чтоб его. Я ему про «Богочеловечество», а он, мол, «это все и так знают». Пошла ва-банк, говорю, спрашивайте что угодно — всё отвечу. А он, знаете, что?
Мы напряглись. Даже Артур вышел из анабиоза: между ладонями мерцал его голубой глаз, излучающий внимание.
— Спрашивает, кто такой Богочеловек. Мол, объясни одной фразой. Ну, ваши варианты, господа?
— Иисус Христос, — тут же ответил Илья — как всегда, безбожно уверенным тоном. — Второе пришествие — когда объединится Бог и человек.
— Сверхчеловек наоборот, — нахмурился Паша, руки он скрестил на груди. — Типа критика Ницше.
— Эрот? Любой полубог? — пожала плечами я. — Как у Платона, среднее между бессмертным и смертным.
— Как воскрешение отцов! — восторженно воскликнул Артур, его лицо резко вынырнуло из-под ладоней, как расцветший за одну ночь розовый бутон. Впрочем, его радость быстро увяла под нашими непонимающими взглядами.
— Ну, почти одно и то же — что там воскреснут, что тут… — он смущенно спрятал лицо за очками.
— Чёрта с два, все неправы! — торжествующе заключила Аня. — Правильный ответ: «Идиот», чтоб его — не ты, Артюша, а князь Мышкин. Типа, он богочеловек. Как вам?
— Допустим, — подался вперед Илья, глаза заблестели.
— А на засыпку спросил, в каком персонаже Достоевский изобразил Соловьева.
— Ну?
— Алеша Карамазов. Но он, насколько я помню, скипидар не пил. — Аня откинулась на стул, самодовольно нас оглядывая.
Помолчали недоуменно, как на похоронах незнакомца.
— И всё, выгнал?
— Ага. Ну и чёрт с ним, — махнула рукой Аня, одновременно отпивая из моего стакана. — Вы уже слышали новость, да?
— Да что ж такое случилось-то? — громко спросила я, вырывая свой стакан из чужих рук.
Только Паша хотел было открыть рот, как его прервал чей-то всхлип. Этот звук был очень тихим и скрытным — мы бы его даже не услышали, если бы столовая за время наших посиделок окончательно не опустела. Всхлип раздался со стороны единственного занятого — кроме нашего лагеря — стола. Мы не могли поверить своим ушам: Загадочный Аутсайдер, гений потока, плакал.
Мы переглянулись. Артюша, самый сердобольный из нас, встал из-за стола и крадучись направился к чужой спине. Гений не шевелился.
— Ты, это… что с тобой? — Артюше, даже с его добрым лицом Сенеки, не ответили.
— Что всё-таки там случилось? — шепотом спросила я у Ани. Она нахмурила брови и дернула плечом в сторону Гения — точнее, Жени. Надо уважать чужие имена, есть в них что-то от бессмертия: ты-то умрешь, а вот имя — нет.
— Я же… — вдруг заговорил Женя, шмыгая носом, — я же встретиться с ним хотел — когда-нибудь, в будущем. Я ради этого французский учил, поговорить хотел. Думал, времени еще много…
Мои соплеменники по одному стали подходить к Жене, лица их приняли необычайно скорбное выражение — вроде того, что Давид пририсовал древнегреческим бородачам, жавшимся к Сократу, пока тот упрямо продолжал учить их умирать. Они садились к Жене за стол, Артюша уже сочувственно хлопал его по дрожащей спине.
Я осталась одна. Мой взгляд бегал по Жениной фигуре, пытался зацепиться за что-то, что объяснило бы мне происходящее. Ничего примечательного: черный затылок, черный свитер, черные штаны, черный рюкзак, опирающийся на ножки стула. Из него торчала книга, прищурившись, я смогла разглядеть на светлой обложке половину заголовка: «Нового времени…»
«…не было», — вспомнила я. Вот оно что. Я же и правда с самого утра только об этом и слышала — из каждого угла одно и то же. И только сейчас дошло. Земля съела еще одного человека, став чуть более плодородной.
Женя на каждом семинаре обязательно хотя бы раз произносил это имя — с уважением, ссылаясь на него как на святой авторитет, вопреки всем советам Бэкона. Как на недостижимого гения, с которым нам по случайности повезло пожить в одно время. Но это сожительство кончилось — Бруно Латур умер, в ночь на девятое октября, пока всё наше племя спокойно спало себе под одеялами. Умер далеко, где-то во Франции, которой, если не смотреть на карту, как будто бы и не существует вовсе. Интересно, похожа ли она на наше курящее крыльцо, идет ли там дождь, мокнут ли под ним знаки, прилипают ли они потом к сигаретному дыму — как тут, у нас? Их цветы тоже растут на могилах пышнее, чем в клумбах?
Я села вместе с остальными за круглый стол со скорбящим Женей во главе. Он уже не плакал, просто сидел неподвижно, растерянно глядя то на пустой стол перед собой, то на наши пустые лица. Сказать было особо нечего.
— Жаль конечно, — начал Паша, — хорошо, что книги остались. Он много всего успел написать.
Паша затравленно оглянулся на нас: кажется, в этой ситуации даже его прокуренного красноречия было недостаточно.
— Мы тебя понимаем, — попыталась подхватить Аня. — Нас тоже это сильно потрясло.
— Не так, как меня, — насупился Женя. — Я все его работы прочел. Даже непереведенные.
— Понимаем, потому что не он первый, не он последний, — зло бросила я: казалось несправедливым, что у Жени остались книги, а у меня только фотографии и платок.
Племя посмотрело на меня с осуждением, но я не глядела на их лица:
— Тут повсюду призраки, куда ни глянь — хоть те портреты наверху. Мы даже не все их имена помним. Но нам-то, нам-то всем? Что теперь, по каждому убиваться? Как говорится, повсюду пахнет нефтью — но это не мешает нам активно ее использовать. Никаких землетрясений, как топтали траву, так и будем.
С языка почти сорвалось плаксивое «Ubi sunt?», но оно тут же было съедено рычащим и рыдающим «Timor mortis conturbat me». Пока я находилась здесь, среди бормочущих камней, этот страшный рев заглушали голоса соплеменников, писк автоматов, шум дождя, скрип столов, лязг турникетов и даже жуткий шепот, раздающийся с изрисованных стен: «О Постум! Постум!». Шелест страниц позволяет на время забыть о существовании похорон: пока слова чернеют на белом, смерти нет. Так плакучие ивы, растущие на кладбищах, собственным примером учат тому, что жизнь побеждает. Роскошь верить в канаты над пропастью, категорический императив, любовь к ближнему, лучший из миров, реинкарнацию, «общее дело», силу разума, бессмертие, рай, мир, тебя, себя.
— Ну, — неожиданно подхватил Паша, — в одном ты права: у всех нас, тут стоящих, умерла парочка авторитетов.
Женя смотрел настороженно и, как мне показалось, с надеждой. Наверное, хотел поверить, что он остался по эту сторону не один — что есть другие, те, кто топчет землю у могил вместе с ним.
— Да-да, — оживился Артур, в порыве сострадания забывший о грядущей встрече с научником-древом. — Сол Крипке, в прошлом месяце! И из-за чего? Из-за несчастного рака! Сколько еще ждать, пока изобретут этот несчастный фармакон? Я тогда так расстроился, но всё молчал, думал, что это стыд какой-то — я же даже не логик…
— Ага, молчал — плакал, как дитя, в углу. Мы, по-твоему, не видели? — ухмыльнулась Аня.
Я вспомнила заботливо спрятанный в Анину сумку том «Крипкенштейна»: на его обложке два лица в сепии как будто бы выступают из тумана — а между ними плывут буквы, хранящие в себе чужие бессмертные имена.
— А в том году Нанси, который Жан-Люк, ушел, — прикусил губу Илья. — Он про Хайдеггера хорошо писал. Жил-к-смерти, как полагается.
— В том году вообще много кто умер, — задумчиво протянул Паша, теребя шарф. — Я удивился, когда про Бувресса узнал — а я ведь часто на него ссылался. И Дудник еще… — осторожно добавил он.
Про Сергея Ивановича мы помнили. И не только наше племя, но и все остальные прямоходящие и умелые. Помнили одинаково, со вздохом.
Артур посмотрел на меня и дернул бровями, призывая присоединиться к их странному обмену смертями. Я пожала плечами:
— Я античник, мои собеседники уже тыщи лет как мрамор.
Наивно было думать, что их устроит такой ответ. Пришлось сказать хотя бы полуправду:
— Гайденко. Использовала в каждой статье. И ведь даже не заметила, когда она умерла, будто бы мне от нее только книги нужны — а на человека плевать.
Во рту между зубами пряталось имя того, кто связан со мной не библиографическими ссылками или научной преемственностью, а кровью. Впрочем, глядя на скорбь Жени, я думала, что нет никакой разницы между смертью отца и смертью учителя: кладбищенская земля мокнет под дождем одинаково и дает одинаковые же всходы — ощущение того, что тебе перерезали пуповину и заставили ее съесть. Ты остался в одиночестве, но всё-таки не один: в животе что-то проросло — то ли мировое древо, то ли ризома, то ли сорняк. Среди листьев шепчутся бестелесные духи — единственное, что осталось от мертвецов: всё их мясо ушло на удобрение для земли.
— В нынешнем веке мы, жертвы цивилизации, едим книги, а людей не трогаем, — вернулся к своему Паша. — Только ради спиритических сеансов в библиотеке.
Аня случайно коснулась меня локтем, и я резко почувствовала, что не одна: нас много, мы живые, мы хотим есть. Но на ужин только чужие страницы — остальное забрала земля, чтобы было из чего выращивать свежее сырье для бумажных книг. Захотелось увидеть цветущую яблоню и ощутить радость. Gaudeamus, Академия будет жить вечно — по крайней мере, должна. Пир же еще продолжается? Чернеет на белом?
— Теперь с каждого по похвальной речи Эроту, — с притворным весельем сказала я, заедая шуткой горький привкус во рту: ростки внутри меня проклевывались с болью.
— Это уже слишком, — помотал головой Илья. — Скажем так: наше домашнее задание — хранить себя как единственное место в мире, где этот мир еще целый и ничего — и никого! — из себя не выронил.
— Легче всех одним махом воскресить, чем запомнить, — меланхолично заметил Паша.
Женя, кажется, тоже почувствовал внутри себя мировое древо: он был бледен, но в его глазах уже сияла золотая ветвь. Женя гладил корешок книги, как могильную плиту, думая, наверное, о том, что кладбище — это не бесплодная земля, а, скорее, райские кущи, где на ветках растут ягоды, дарующие бессмертие. Отцов не надо воскрешать, они сами прорастут к солнцу — и станут травой, по которой нам суждено топтаться. Яблонями, чьи плоды на вкус горько-сладкие. Но кости, скелеты? Их мы больше никогда не увидим.
Артур махнул нам рукой, с неожиданной прытью схватил Женю за плечо и повел в коридор.
— Меня же С.К. звал! — крикнул он нам в дверях. — Мы к нему пойдем!
Остатки нашего племени рассмеялись. Я подумала, что С.К., вековечное дерево, знает о расцветании больше нашего, еще зеленого и хлипкого, — о том, как пробиваться сквозь скорбные пески кладбища к солнцу; как чернеть на белом, чтобы белое не заканчивалось; как обвивать плющом чужие холодные кости. Плакучие ивы рыдали на стольких похоронах учителей и товарищей — и столько же раз улыбались, видя, как вновь распускается сирень на сухих ветках. Мне захотелось уткнуться лицом в их седые листья, услышать скрипучий шелест, бормочущий о том, как это естественно — стоять на плечах статуй, прорастать сквозь мертвый камень, питаться чужим, чтобы стать собственным. Я почти пошла следом за Артуром и Женей, но меня остановил стыд: что я принесу к столу, если книг от отца не осталось? Платки?
Мы медленно собирались по домам. Затирали следы трупоедства: убирали красные подносы, задвигали стулья. Как всегда, с трудом открыли тяжелые двери — университет не хотел нас отпускать — потом уперлись лбом в колонны и разошлись в разные стороны, каждый в свою арку.
Клан курящих по обыкновению курил. Проходя мимо них, я услышала привычное воркование: картавые Лакан, Фуко, Делез, Деррида и прочие недавние изобретения шагали маршем перед моими глазами. Маршировали и другие, не картавые, мертвые и живые, забытые и нет, нарисованные и сфотографированные, те, чьи портреты висят на третьем этаже нашей песочной alma mater, и те, кто туда не влез. Чем дальше я отходила от факультета, тем тише становились их голоса, тем сильнее пахло призрачной плазмой и нефтью, тем цивилизованнее становилась я сама, и тем более одиноко я себя чувствовала. Книг недостаточно. Нужно что-то надежнее, теплее. Бессмертнее.
«Вот бы съесть их всех», — пришла в голову чужая мысль. Но я никогда не видела их мертвых тел — ни Латура, ни Крипке, ни Платона, ни Фалеса: земля проглотила их еще до моего цветения. Единственный труп, к которому я приближалась губами — и то, только чтобы поцеловать на прощание бледную руку, — принадлежал моему отцу. Как же я могу съесть того, с кем связана кровью? Отец умер раньше, чем опали первые листья этого года — ровно в тот момент, когда, испарившись под жарким солнцем, вымерло ящеричное лето, и из его останков выкипела нынешняя осень, мохнатая, беспрестанно сплевывающая на землю красноватую слюну — жирно блестящие лужи.
Да, этой осенью под моими ногами прибавилось плеч гигантов. Я равнодушно топталась по ним и их книжным страницам, как по зеленым листьям травы. Но те плечи, которые катали меня на себе в детстве, исчезли безвозвратно и тихо, никто кроме меня по ним не скорбел, и даже я помнила не столько их тепло, сколько абстрактное «неужели было» — как памятная табличка «В этом доме жил тот-то», как часть речи, подлежащее, мне предшествовавшее; буквы, наколотые на кремниевый наконечник копья; жук в янтаре, моллюск с оттиском на закаменевших губах: «Вся плоть — трава»; и пошлое «Memento mori», которое можно найти высеченным и на могилах, и на школьных партах.
Пока тучи по ошибке пропускали осеннее солнце, моя память тоже ошибалась, заменяя в памяти лицо отца на мутное пятно — такое же, какое остается на скатерти, когда на нее проливают бульон — не важно, куриный ли, или свиной: он в любой случае будет отдавать мертвечиной. Мне оставалось только вопреки всем табу давиться этим супом, надеясь, что дерево внутри меня вырастет пышным, раскидистым — таким, из которого получаются самые белые книжные страницы. Земля и будущее требуют удобрения: приятного аппетита всем сотрапезникам по эпохе.

