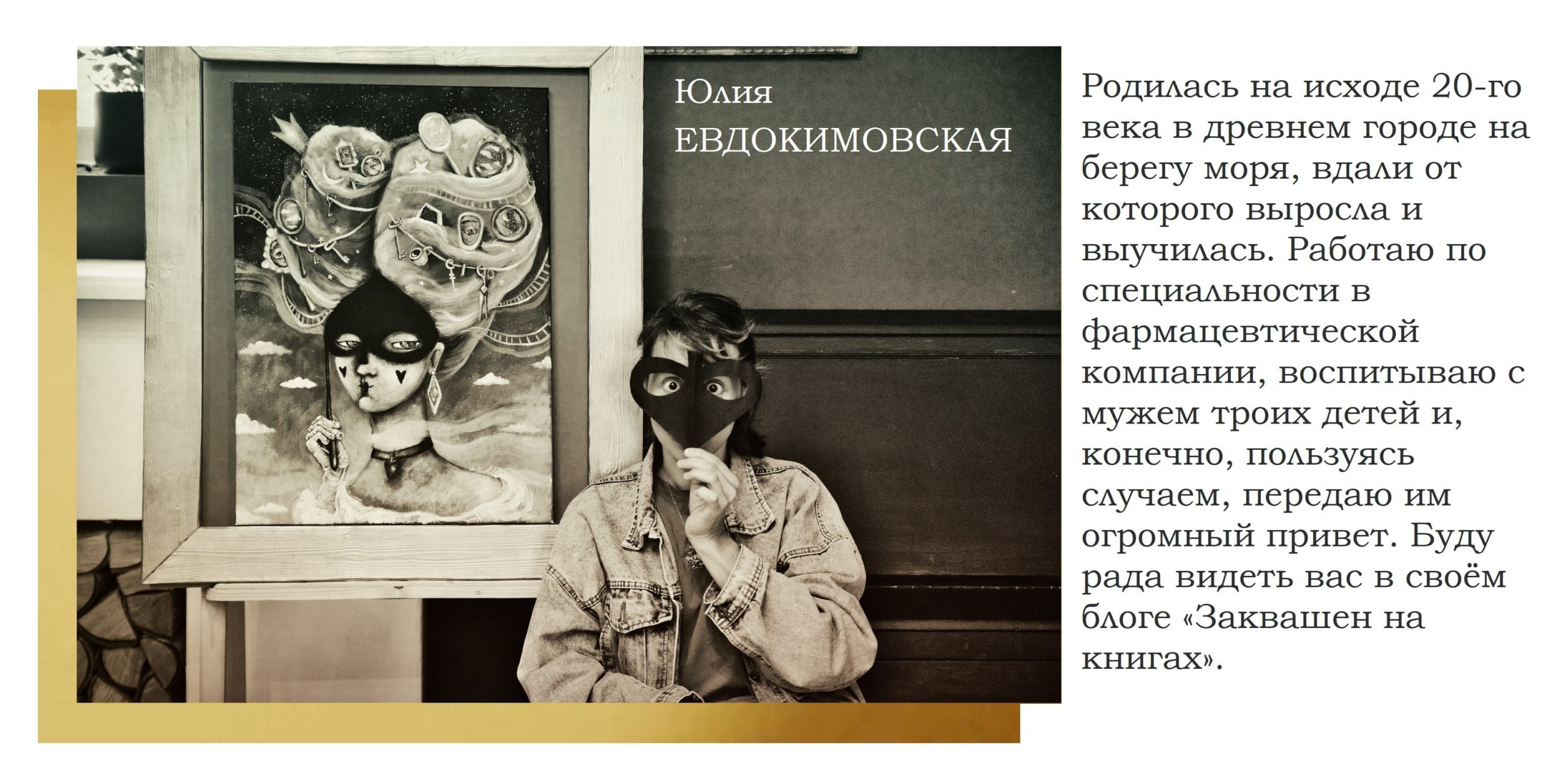
Жил на свете Карнавал.
Старый Карнавал.
Мне говорили, но я не поверила: люди столько не живут, впрочем, мир знавал и других долгожителей, взять хотя бы старину Пабло. Пабло Весенто было сто пятнадцать, когда он перестал смеяться. Пабло оставил десятки праправнуков. И многие считали его слишком старым, чтобы оплакивать в день прощания.
На весентовских похоронах Карнавал охотно рассказал, каким был усопший в детстве. Более никто из присутствующих этого знать не мог. Для них Весенто сразу был старым, в мягкой шляпе и пиджаке, с пледом на коленях и рассохшейся шкатулкой, в которой старик хранил фотографию своего первого внука и перья последнего маврикийского додо, прожившего беззаботных семнадцать лет, пока не подавился камешком.
По рассказам Карнавала выходило неладно и нескладно: мальчишка подворовывал у отца, шипел на гусей и спал на земле, как бродячая собака. Но и остепенившегося Весенто рассказчик тоже не пощадил. Например, откуда-то Карнавал взял, что перья додо Пабло ни в грош не ставил, потому что ненавидел дронтов за их непроходимую тупость и доверчивость. Всё врет! Сказал, что Паблито своими крепкими руками раздавил последнее живое яйцо на глазах последней пернатой самки, которая тут же скончалась от горя, а Весенто, как вы понимаете, прожил долгие лета после этого гнусного преступления, прославив додо разве что в глупой песенке, которую он больше семидесяти лет пел на западном склоне оврага в те теплые летние дни, когда не было дождя. Песня его была столь абсурдна и смешна, что невольно запомнилась всем соседям. И осталась жить, а додо — нет. Каждый из присутствующих знал эту песенку наизусть, им стоило усилий не улыбнуться, только Маркес в углу не сдержался и фыркнул. Раз додо над полем с лошадью летели… Захочешь забыть, так оно само пристало намертво — не отдерешь.
Перья в шкатулку подложил тот самый внук с фотографии, когда старик уже плохо видел. Карнавал счел возможным припомнить еще и такое: Весенто не любил смеяться. Он любил летучих мышей, которых если и ловил по чердакам, так только из жалости, чтобы тут же отпустить в сад, потому что они частенько не могли выбраться с чердаков самостоятельно. Напуганные мыши не любили Весенто и вообще никого не жаловали сентиментальными порывами. Этим-то они и нравились злобному старику, рассказывал Карнавал.
Опомнившиеся внуки Весенто наконец попросили Карнавала самостоятельно покинуть приход, пока они не выкрутили ему руки, которыми он так отвратительно размахивал, очерняя их беззащитного деда, тут же лежащего рядом и напомаженного в последний путь. Карнавал вышел, но поддетая его рассказами маска уже не прилегала столь плотно к скулам усопшего Пабло, и младшие из рода Весенто усомнились в благородности известной фамилии, которую они с таким почтением носили десяток лет своей юной мармеладной жизни, оцарапанной лишь грубой корой апельсиновых деревьев.
Следующим отвернулся от грешного мира Маркес Мария де Базилио, сорока семи лет от роду. Разумеется, и его Карнавал знавал маленьким, но сказать ничего определенного про грешника не мог, зато вспомнил пару историй про его отца, проигравшего в поезде деньги, которые позарез были нужны Карнавалу. Базилио-старший в очередной раз не смог отдать старый долг Карнавалу.
Когда Карнавал сказал, что знал Маркеса Марию еще маленьким, гости насторожились. Маркес был той еще сволочью, и услышать истории из его убогой биографии не хотелось никому из присутствующих. Пришли они на прощание лишь потому, что накануне крепко выпили, досмотрев футбольный матч, где, как это часто бывает, одна команда выиграла, а другая — нет. Словом, горевали они так, что не только пятница, но и суббота пропала начисто, и дел начинать не стоило. А тут покойничек. Отчего бы не сходить в церковь, ведь кстати. И недалеко, и спокойно, ни в какое сравнение с футболом!
Знал я его с колыбели, но сказать мне про этого маленького засранца нечего, прошамкал Карнавал, и с размаху сел на скамеечку. И тут все поняли, что Маркес Мария был таким уродом с самого детства. Он навсегда запомнился патлатым пропойцем, в одну ночь выдравшим с корнем все апельсиновые деревья, за которые жены рыбаков отвалили звонкие монеты, отложенные на платья и бусы. И снова попросили Карнавала промолчать из уважения к первым цветам новых апельсиновых деревьев, которые были так напуганы участью предшественников, что покрывались клопами, стоило только Марии Маркесу пройти мимо, хоть бы и по соседней улице.
В понедельник Эрландо Доменико Акапулько всё еще опохмелялся после того злополучного матча и ненароком упал в колодец. Карнавал даже не удосужился потом прийти в церковь, потому что всё сказал у колодца. Сказал, что Акапулько был художником от Бога. Если кто и видел его рисунки, то таких в этой деревне не было. Карнавал пояснил, что Эрландо никогда не рисовал потому, что руки у него вечно тряслись, так что вам придется поверить на слово. Но никто не поверил, пока не разобрали постель Эрландо. Подушка и матрас его были набиты не перьями додо, как у всех в деревне, а бумажными шариками. Развернули один, другой — там рисунки невиданных заклепанных страшилищ с рогами на носу и серьезными кроликами, сложившими лапы перед собой так, чтобы зрителю было сподручнее любоваться их красотой. Бесчисленное количество скомканных рисунков выгребли из конуры Эрландо.
Трудно сказать, правда ли его рисунки были божественны, но в городе тут же устроили выставку, которая сгорела неделю спустя. Вот когда не осталось ни одного рисунка, Карнавалу поверили на слово. Других художников больше не родила эта горячая апельсиновая земля. А которых и родила, те не держали никогда в руках ни карандаша, ни сангины, ибо отцы их были так бедны, как и их матери, отдавшие все деньги на новые апельсиновые деревья.
Карнавал недолго еще ходил гоголем. Он умер, потому что надышался черного дыма на пожарище, пытаясь спасти хотя бы одного нарисованного петушка. Или курочку.
На похоронах старого Карнавала я сказала, что теперь некому будет снимать маски с усопших, и в деревне случилось настоящее горе, какое бывает только с людьми, чьи души под палящим солнцем становятся так горячи, что загораются от малейшей искры. Прошло семь дней. Семь дней я не видела людей на улицах. Прошло семь долгих дней, за которые можно было успеть сотворить целый мир и новых людей.
И на восьмой день ко мне наконец подошел человек. Его лицо было закрыто перьями додо. Я сорвала маску, под ней оказался старый плут Фернандо, шаманящий дожди в обмен на курево. Пусть будет вечно жить наш Карнавал, прошептал Фернандо. Он всегда шептал, так что нам, силясь расслышать, невольно приходилось придвигать свое лицо к его носу, который простые люди редко видят вблизи, а потому и не знают хорошенько, как он должен выглядеть. Но уж точно не так, как у Фернандо, не бывает же на свете двух одинаковых носов. Каждый год, в день смерти Карнавала, продолжал шептать Фернандо, пусть перья додо закроют все лица, и только старикам будет дозволено снимать маски с людей. Я согласилась, лишь бы Фернандо прекратил шептать, и мне не приходилось больше прислушиваться: Фернандо сосал сигары целыми днями, и от него нестерпимо разило куревом.
Карнавал умер — да здравствует карнавал! Через несколько лет старики в той деревне перевелись, как это часто случается со стариками, — срывать маски стало некому, и женщины снова потратили свои накопления, на этот раз на буcы и ткани, ведь не ходить же целый день в одних только жутких птичьих масках, которые некому снять. Хотя бы нарядными.
Ред.: Виктория Сайфутдинова

