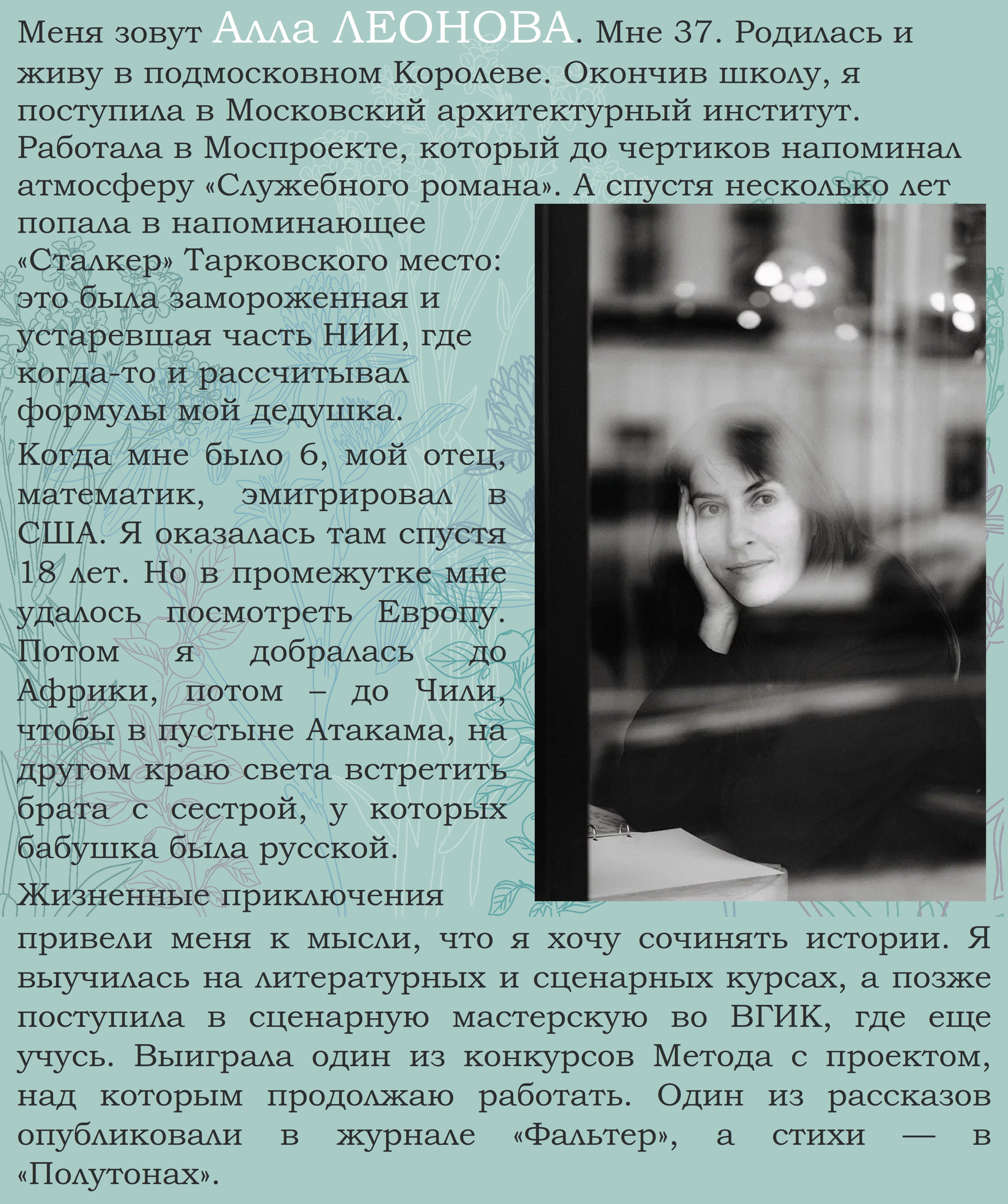
Сорок минут на красно-серой электричке с деревянными сиденьями. Сорок минут на метро по красной ветке. И еще почти столько же пешком от станции по белому городу. Бегу в НИИ акушерства и гинекологии.
При входе в НИИ женщина с советским начесом медленно и чинно выписывает пропуска, долго рассматривая паспорта посетителей. Я записана к врачу последней и уже опаздываю на 5 минут, ожидая очередь в мраморном холле. Время тут как будто замерло: запахи лекарств и старых лакированных поручней уносят лет на сорок назад.
Запись к врачу вперед на 2 месяца. И я понимаю, что будет, если я к ней не попаду: ловля свободных дат и еще несколько месяцев ожидания.
Минуты идут. Передо мной стоит пара: парень и девушка, которой вот-вот рожать. Женщина с начесом долго и с нескрываемым наслаждением изучает их документы и на секунду кажется, что она — центральный элемент этой бесконечной цепи женских родов и потерь. Я опаздываю уже на 10 минут, в какой-то момент закипаю, словно эмалированный чайник и начинаю орать: по мраморным коридорам разносится истеричное «А-а-а-а».
Откуда-то выныривает охранник, готовый тут же меня вывести, беременная девушка брезгливо пятится со словами «Больная», а женщина с начесом продолжает меланхолично перебирать справки и паспорта, словно ничего не произошло.
Робко замолкаю, пораженная каким-то странным аффектом. Отдаю паспорт, и смотрю сквозь стекло, за которым сидит женщина с начесом, словно я рыба в каком-то бесконечном аквариуме, а мой крик — это всего лишь попытка ухватить последний воздушный пузырь…
К врачу я успеваю.
В белом кабинете мы обсуждаем возможные причины невынашивания беременности, а за окном постепенно зажигаются огоньки вечернего освещения. Я понимаю, что очень устала.
Выхожу из одетого в холод мрамора здания и жалею, что не курю. Хотя, можно просто выпустить пар в январский натянутый воздух.
* * *
Вспоминаю острый вкус шаурмы: первое, что мы побежали есть с соседкой после выскабливания. Я не помню, как звали соседку, не помню, о чем мы с ней говорили, помню только, что мы очень сильно хотели есть. И грузинского парня с болотисто-зелеными глазами, что сворачивал нам конвертики из лаваша, помню. Было лето, но какое-то серое и пустое. Бетон лавочек, спортивные треники, в них удобно после операции, и теплый ветер. А потом вкус искрящегося грузинского лимонада на языке, липкий, вязкий.
Резкая гроза и дождь, хлынувший из живота огромной тучи цвета асфальта. Мокрая фольга, в которую завернута шаурма, потемневшая от капель дождя одежда. Грузин предлагал нам зонт. А мы побежали обратно в больницу. Обычное лето. За ним пустота.
* * *
Мне семь, и я осторожно ступаю по перекладинам металлического лабиринта, словно канатоходец. Я пытаюсь перепрыгнуть через дыру там, где отсутствует одна из перекладин, но падаю, ударяюсь грудью и несколько секунд не могу дышать.
На детской площадке никого: все разбрелись по бабушкам или ушли на обед. Вокруг бесконечная вязкая серость ранней весны. Я решаю пойти дальше, к высокой, метра в три-четыре, металлической лестнице. На самой последней перекладине я кувыркаюсь, повиснув над пустотой. Руки потеют и скользят, еще чуть-чуть, и упаду. А лететь до земли, кажется, бесконечно долго. Но в последнюю секунду я хватаюсь за холодную, как жаба, боковую трубу лестницы, перелезаю и спускаюсь вниз.
Иду в следующий двор: быть может там я встречу кого-то. Мне кажется, словно я в большом надувном пузыре, который несет ветер. Ни у пузыря, ни у ветра нет постоянного направления, есть только хаотическая пустота движения.
Через час, а может, и через два я встречаю на одной из бесконечно похожих улиц военного городка вспотевшую бабушку и бесконечно злую мать.
— Мы искали тебя три часа! — мать пытается совладать с собой и не сорваться в крик. Я всё понимаю, смотрю в пол. Я очень рада, что в очередной раз меня нашли.
Первый раз я сбежала из детского сада через дырку в заборе. Забор починили, а бежать я продолжила: уходила гулять, шаталась иногда часов пять по одинаковым дворам. Мама с бабушкой всякий раз искали меня. Красные, запыхавшиеся, словно быки мчались навстречу, только увидят. Мама больно хватала меня за руку, это значило «Я тебя не отпущу». И мне становилось спокойнее.
* * *
Мне шесть. Ты за руку выводишь меня на улицу, февральская снежная каша напоминает сметану из топленого молока.
— Через две недели я уеду, далеко. В Америку, — Ты говоришь это буднично, но отводишь взгляд, ковыряя снежное месиво носком ботинка. Земля уходит у меня из-под ног. Это ощущение я испытаю потом не раз. И понимаю теперь кое-что: всё, что причиняет нам столько боли, всегда незаметно и буднично. Как будто ничего не произошло. Обычная зима.
Ты уезжаешь за океан, толком не попрощавшись. Я даже день отъезда твоего не помню, папа. Память блокирует дни моральных ДТП. Заблокирует лето и шаурму, болото глаз грузина, весну серую и лабиринты перекладин. И лишь однажды прорвется криком, разнесется по мраморным коридорам болью, но тут же робко затихнет, не замеченная никем.
* * *
Иду от НИИ. Под светом вечерних фонарей белое стало темно-синим, фиолетовым и розовым неоном. Вспоминаю, как-то за обедом коллега мне сказал:
— У моей жены было пять выкидышей, ну и что? В итоге родила же!
Улыбаюсь, и стреляю у прохожего сигарету с рыжим фильтром. О боли говорить не принято, важно казаться сильной, лучше закурю. Тем более у меня было всего два, ну и что? Да и сын у меня есть: «родила же!» Мне повезло больше других, грех жаловаться. Вспоминаю слова одного знакомого:
— Эй, ну что ты ноешь, у тебя же есть ребенок. Не концентрируйся ты на этой боли, надо мыслить позитивно.
Не докурив, бросаю сигарету, ставлю в наушниках случайную песню. И думаю про других девчонок, которым повезло меньше, чем мне.
Вспоминаю безымянную соседку: первая беременность — выкидыш.
Вспоминаю акварельную Аньку, с которой я лежала в больнице на полгода раньше: этот выкидыш для нее — третий. Она поглаживала живот, смотрела сквозь своими водянисто-васильковыми глазами, без остановки отпускала шуточки. За смехом мы обе прятались от невыносимой грусти.
Вспоминаю Юлю, с которой лежала на сохранении в первую беременность. Юля рыжая, веснушчатая, с мелкими кудряшками, у нее это тоже первая беременность. Она работала в госконтроле, травила истории про дилеров, которых часто безуспешно их контора пыталась ловить. Мы подружились, лежали в разных палатах, ходили друг к другу. В какую-то из ночей в соседней палате слышно было движение, стоны, топот медсестер.
В обед зашла Юля: веснушки погасли, цвет ее лица был каким-то серо-желтым.
— Почистили, — сухо сказала она, — Во время наркоза такие мультики! Завтра выпишут.
Я молчала.
Перед выпиской она заглянула в мою палату, и мы долго молча смотрели друг на друга, потом также молча обнялись. Она ушла, а я всё не могу забыть ее взгляд, пронизанный страхом и удивлением.
Мысли лавинообразно окутывают меня. Думаю о том, что после одного-двух дней в больнице все эти женщины пойдут на работу как ни в чем не бывало, все они будут молчать, продолжат казаться сильными, продолжат делать вид, что всё окей: таковы правила общественной игры. И, хоть мне до сих пор неудобно об этом говорить, как будто я попрошайка в метро, я одна из них. Неудавшаяся попытка, выкидыш — кажется мне чем-то постыдным, вместе с тем меня охватывает невыносимое тягучее бессилие. Как будто мой ребенок ушел гулять, а я ношусь по бесконечным спиралям улиц и не могу его найти.
Иду мимо металлических лабиринтов детской площадки: девчонка лет семи бегает по ним с радостным криком:
— Ма-ам, Па-а-ап, догони-и-и-и…
Крупные хлопья снега летят мне в лицо: завтра февраль. Обычная зима.

