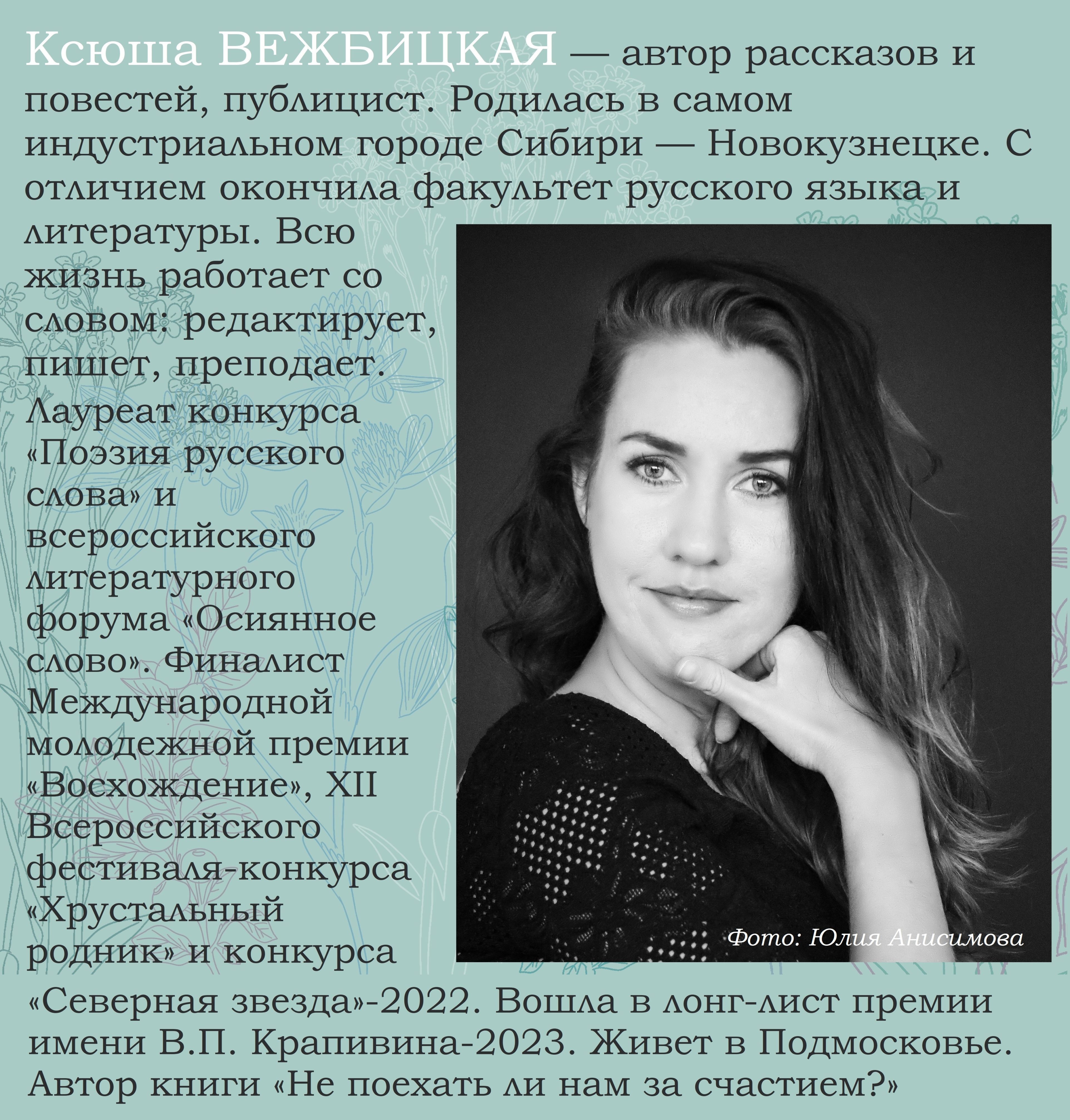
— Вот почему в поезде так жрать охота? А потому что от еды спокойнее делается. Достал яйцо, огурец, курочку — и вроде как дома. Стол, опять же, застолбил. И кровать есть. Теперь и жить можно, — говорят в соседней плацкарте.
— Это ж какой вопрос — философский! Что должно быть первым… Курица или яйцо?
— Что яйцо? Мы однажды в Адлер ехали, и семья напротив трое суток вяленую рыбу жевала. На завтрак, обед и ужин. Их ругали, на них жаловались, а они продолжали есть. Весь вагон провонял, у нас потом даже от волос несло рыбой.
— Рыба — вкусно. Эх, жаль Барабинск не проезжаем! Уж лучше, чем этот ваш глутомат.
Химический аромат заварной лапши проедал измусоленные вагонные стены из ДСП.
На взрывы хохота Лидия Павловна поджимала губы и ерзала на сиденье, заправленном без единой складочки. Сидела она на краешке, поглаживая вафельное полотенце с ромашками. Напротив разгадывал сканворд усатый мужик, который за всю дорогу едва три слова выдавил. Лидия Павловна и на него бы поджимала губы, но мужик помог ей закинуть сумки на третью полку. И крошки на столе не оставлял.
Со второй полки спустилась девушка. На мгновение задержала взгляд на аккуратно заправленной постели Лидии Павловны и села на полку усача. Девушку звали Катюшей, она слушала хохотунов и улыбалась, стыдливо косясь на свой кулек с пирожком — Лидия Павловна и усач заняли весь стол.
Катюша и Лидию Павловну охотно слушала, и про себя уже всё ей выболтала. «С этой хоть словом можно перемолвиться, — думала Лидия Павловна. — А то вон, едет на боковушке девица. Через губу разговаривает. В компьютере сидит. Молодые такие пошли, оторваться от экрана не могут!»
Девица на боковушке задумчиво чесала ногу, хмурилась. Забыла дома наушники, и теперь громкие соседи мешали ей работать.
Поезд закряхтел, присвистнул и замер у платформы, где суетились люди. Кроме чемоданов и дорожных сумок на них гроздьями висели пакеты с провизией, круглившиеся бесстыдно, как рубенсовские женщины. У окна мелькнул один такой пакет — с банками. Хрустящие корнишоны упирались в стеклянные бока, краснели соленые помидоры, с трудом помещалась в банки утрамбованная квашеная капуста.
— Красота какая, — оценила Лидия Павловна.
— Не говорите, аж есть захотелось! — соглашалась Катюша, всё поглядывая на пирожок.
Пассажиры чуть подвинулись к окошку.
— Три минуты стоим, три минуты! — басила проводница на курильщиков.
Банки покоились на лавочке. Их хозяйка нервничала: она провожала дочку. Та равнодушно курила и отвечала сквозь зубы. На плечи небрежно наброшена дерматиновая кожанка, на ногах джинсы, высокие сапожки, давно не видавшие губки с гуталином. Взгляд дымный, в никуда. За несколько минут стоянки поезда мать успела десять раз заглянуть в сумки и мешки. «То взяла, это взяла?» И волосы поправила, и кофточку подала — «замерзнешь ведь», и пакеты свои с банками совала, а дочка всё курила, скислившись лицом.
— Провожа-ающие, выходим.
«Мама, иди».
Мать заковыляла по платформе, оглядывалась и махала рукой. Дочка бросила недокуренную сигарету с отпечатками жирных губ, лениво потянулась за сумкой и, не глядя на мать, зашла в вагон.
Пакет с банками остался на захарканной платформе. Полиэтиленовые бока дрябло обвисли, прилипли к банкам. Ничейные огурцы и помидоры безмолвно и стыдливо впечатались в стекло.
Поезд тронулся. Пассажиры медленно провожали сиротливый пакет глазами. Даже усач оторвался от сканворда.
У пешеходного моста раскрасневшаяся от переживаний женщина остановилась, обернулась. Руки ее бессильно повисли, а лицо исказилось, как у монумента Родина-мать.
— Бессовестная, — прошипела Лидия Павловна. — Видели, а? Ей — мать! А она! Видали, а?
— Да уж! Жалко как… — Катюша прилепились бы к окошку, если б не усач.
— На платформе оставила! Как так можно? Это ж надо! Забыла? Или специально? — Лидия Павловна едва не схватилась за сердце. Пакет уж исчез из вида, но возмущение не утихло.
— Какие молодые пошли! — разорялась Лидия Павловна. — Ни во что старших не ставят!
Усатый мужик покивал досадливо, причмокнул, хотел вернуться к сканворду, но Лидия Павловна разошлась не на шутку.
— Видели? — спрашивала она.
Хмурая девица оторвалась от ноутбука.
К всеобщей досаде, дерматиновая куртка остановилась в их плацкарте. Девушка сверила номер полки с билетом и стала укладывать сумки.
Усатый дернулся было помогать, но Лидия Павловна пригвоздила его взглядом.
Все молча наблюдали, как девушка опускает полку и стелет постель («криворукая-то, могла бы и аккуратнее, пылищи натрясла!»)
Закончив, она взяла сумочку и куда-то ушла, пошатываясь в унисон кренившемуся поезду.
— Какая! — шептала ей вслед Лидия Павловна. — Да мне б в ее возрасте за счастье, если б мать с собой какой кусок сунула! А эта — нос воротит. Помню, в общежитии одна кастрюлька на всех. И делились, у кого что было. А теперь что? Ни к чему не приучены. Лишь бы в телефонах сидеть! — Лидия Павловна как бы невзначай поглядела на тощую с ноутбуком. — Вот что сейчас родители говорят? Мол, нам было трудно жить, пусть хоть дети хорошо поживут. И вырастили поколение бездельников! Денежки хотят получать, а работать не хотят! Никаких представлений!
— Ну, не все же такие, — вступилась Катюша.
Лидия Павловна поерзала и насупилась. «Сейчас прям, ага, поверила».
— Знаю много ровесников, которые работают тяжело, днями и ночами. Люди сейчас не работать, а отдыхать разучились, — убеждала ее Катюша. — А после работы еще и волонтерят.
Лилия Павловна не оценила, дулась.
— У меня вот случай был! Собрались мы как-то с друзьями на сапах покататься.
— На санках?
— Да не, на сапах, это доски такие, серфинг.
«Ерунды понапридумывают!»
— У метро собирались. И вот глядим, подходит старушка, говорит: «Ой, а скажите, как до станции Еремино, значит, доехать?» — Катюша рассказывала театрально, в лицах, изображая немощную старуху. — Кто-то отмахнулся, мол, что за Еремино, нету такого в метро. Кто-то догадался — так это вам, бабушка, куда, на вокзал? Точно, говорит, на вокзал. Какой вокзал-то? Не помню, говорит. Наверное, Белорусский. Ну, на Белорусский, вам, значит, до кольца. До коричневой ветки, понимаете? Бабуля глазами хлопает, про кольцо и не слышала. Ну, попросите кого-нибудь, я тороплюсь, говорят. Тут старушка совсем растерялась, кругом смотрит — поможет ли кто? Подружка моя, Ленка, с которой мы остальных-то дожидались, и поняла: неладное с бабулей. Она к ней подходит, я позади топчусь, пока не понимаю ничего. И подружка моя спрашивает:
— Бабушка, вам куда?
Та бормочет чего-то. В Еремино вроде.
— А как же вы одна, вас кто-нибудь встретит там, в Еремино-то?
И этого наша бабушка не знает.
— Да вы присядьте пока, — говорим и бабушку на лавочку усаживаем.
Подруга куда-то звонит и говорит: так, мол, и так, бабушка дезориентирована, метро такое-то.
Так мы забыли про сапы, и бабушку эту отбивали от всяких с хитрыми глазами, кто готов был ее куда-нибудь везти. Минут через десять подъехали на машине полицейские, стали уговаривать бабулю с ними поехать, мол, домой отвезут. Это волонтеры вызвали полицию, чтобы разобрались, кто такая, и родню нашли. А бабуля ни в какую в полицейскую машину садиться не хочет: испугалась. Наконец удалось выпросить у нее паспорт. А мы, надо сказать, опоздали уже везде. Еле подружку от бабушки этой оттащили, мол, полиция теперь разберется.
Приехали на карьер. Там хорошо: вода к вечеру прогрелась. Купаемся, смотрю: Ленки нету. Она на сапе согнулась, лицо спрятала. Я к ней гребу, ветер встречный, как назло. Смотрю: дрожит Ленка, весло того и гляди из рук выпадет. А я ведь знаю, что плавает сносно, чего бояться-то? Я ей: «Ленка, ты чего?» А она: «Плыви, мол, не обращай внимания». Думаю, ну ладно, может, устала грести, отдыхает. И пошла плавать. Потом смотрю: Ленка плывет к берегу. И медленно так. Я ничего дурного-то и не подумала. Это мне потом уж Ленка рассказала, что у нее паническая атака началась. Сижу я, говорит, на сапе и думаю — как бабулька-то? Добралась до дома? Что там полиция-то? И страшно так стало за нее. И вода повсюду, и берег далеко, и ветер подул сильный — вроде гроза надвигается. И чует Ленка, что ноги онемели — сидела, под себя поджав. И встать не может. И страх ее разобрал. Давай к берегу грести — а ветер. Полчаса гребла, догребла — ноги онемели совсем, вся в слезах — встать не может. Кое-как ее с сапа этого сняли. Вот такие люди неравнодушные бывают. За бабушку незнакомую переживала. Так что молодые тоже разные!
Лидия Павловна качала головой.
— Понапридумывали панические атаки какие-то… Малахольные пошли! В тепличных условиях растут. Раньше люди закаленные были, и войну прошли, и в поле рожали, а сейчас панические атаки у них. С жиру бесятся. Телевизор этот включишь — раньше масоны во всем были виноваты, потом марсиане, теперь вот… панические атаки. От скуки это. Работала бы, дети дома есть хотят — и никаких атак!
— Да есть же диагноз такой…
— Ага, денежку плати, и не такие болезни тебе диагностируют.
Замолчали. Спертый вагонный воздух отяжелел. Лидия Павловна достала пластиковый веер, обмахивалась и шипела:
— Бессовестная!..
Соседи уже не хохотали, только надсадно и жалобно скрипел вагон. Никто не возвращался к прежним делам. Усач, задумавшись, в пятый раз проскальзывал по строчке сканворда, девица с ноутбуком отрешенно смотрела в окно, на которое брызнули первые капли дождя.
Саша никак не могла вернуться к работе. То шумят, то странные пассажиры заходят. Близость вещей той, на второй полке, ощущалась как вторжение. Сколько ехать с ней? И так пришлось терпеть маргиналов в соседнем купе и тетку с веером — всю дорогу не затыкается. Теперь еще эта. Саша поморщилась. Она тоже наблюдала сцену с пакетом и чувствовала, как изнутри накатывает волна отвращения к миру.
Рассуждения тетки о безнравственных молодых, конечно, Саше не нравились, ей самой-то двадцать три года только. Но раздражение она полностью разделяла — разве можно так? Саша представила: вот мать горбатится на грядках, чтобы посадить огурцы-помидоры. Поливает каждый вечер. А спина-то не железная! Да и помощи никакой не дождешься, всё сама. Потом собирает заботливо урожай, хвастается соседке, неделю закатывает банки. Потом банки томятся в ожидании детей или внуков, а те хорошо если разок за лето приедут. Дела у всех. И вот она нагружает пакет банками, да побольше, своим не жалко, наоборот — лишь бы кушали! И тащит, тащит.
А банки никому и не нужны. Как и ты на старости лет.
— Никому я не нужна, — шепчет старуха.
Саша сидит на стульчике у кровати. Кормит слепую бабушку. А шепчет ее соседка.
— Троих вырастила… И никто, никто…
Саша хочет ей что-нибудь сказать в утешение, но слова оседают где-то внутри и не идут. Пансионатских бабушек невозможно утешить, можно только отвлечь, заговорить. Когда Саша пускается в рассказы, то ощущает, как невидимо в комнате присутствует третий слушатель. Самой смерти зубы заговаривает: мол, не сегодня, пускай поживет еще старуня, не видишь, мы тут общаемся, занята бабушка, уходи!
И тогда у Саши внутри возникает эйфорический пузырек. Когда пузырек добирается до головы и лопается, по телу разливается покой и ощущение правильности. Не заменит, конечно, тех, кого бабушки эти вырастили. Но всё равно. По будням Саша сидит в треклятом офисе, дышит прогорклым кофе и думает, кем станет, когда «вырастет». А пока пансионат по субботам, потому что надо же хоть где-то искать смысл ноября за офисным окном.
«Интересно, а каково вот им живется? — думала Саша. — Тем троим, которых бабушка вырастила. Вкусно они кушают, хорошо спят по ночам, не ворочаются?»
На узкой и короткой плацкартной полке Валера согнулся в три погибели. Одеяла тоже не хватало — ни лечь нормально, ни укрыться. Пригладил усы, вздохнул, перевернулся на другой бок. Тетка напротив уснула — слава богу, тишина. Отключили свет. Пришла та, с верхней боковушки. Долго шуршала, наконец забралась на полку, отвернулась к стенке. Смурная будто.
Валера вспомнил, как сам от родителей уезжал смурной. Мать такого наговорила в дорогу — впрочем, как обычно. Не вышел из Валерки нормальный сын. И всё-то он делал неправильно, и за всем-то следовало наказание. Валерка внимательно смотрел — не скривилась ли губа у матери, не изменилась ли походка у отца — надо ли уже хорониться, или еще поживем. Но ему всё равно прилетало. За плохо помытую тарелку, за бардак, за испачканную куртку, за тройку, за недовольное выражение лица, за слишком довольное выражение лица, за незаправленную постель, за съеденный обед, за несъеденный обед.
Прилетало за то, что находился в комнате, поблизости, жил, дышал и этим бесконечно раздражал такой непутевый Валерка. «У всех дети как дети, только у нас дубина стоеросовая, в кого такой?» И тогда Валерка понял: надо поменьше находиться в комнате. И убегал. Убегал и получал еще больше, в основном от отца. А потом и убежал насовсем в город учиться. Отец даже провожать не пошел, а мать говорила: никуда не поступишь, бестолочь, кому ты нужен, дебил такой, в поезде обнесут, в общаге обнесут, только попробуй домой заявиться, дубина, говорила тебе, нет, прется в город, нет чтобы…
Удивительно, но Валера поступил в техникум, и его нигде не обнесли, а в общаге подружился с ребятами. Но сына из Валерки всё равно не вышло: поступил не туда, работаешь не там (это при том, что зарплата у Валеры ничего себе, нормальная), жена транжирка, дети невоспитанные неучи. Отвечать на телефонные звонки от матери (отец никогда не звонил) было пыткой, но, к счастью, звонила мать всё реже. «Так старались тебя воспитать, а ты? Столько сил в тебя вложили, а ты? Вот Ванька, а ты? Вот у соседей сын, а ты?» А теперь — когда последний раз звонила? Не помнит Валера. А был у родителей… Дай-ка вспомнить. Сколько матери уж лет? Валера задумался, считал, да сбился. Сам уж полтинник разменял.
Стало душно, одеяло липло к телу. Валера ворочался в поту. Вагон храпел. Храпуны будто перекликались между собой, и громче всех храпела тетка с веером. Измучавшись, Валера уснул, и снилось ему их старая кухня. Пар стоит — не вдохнуть. Мать закатывает банки, большие ее красные руки утрамбовывают огромные зонтики укропа. Маленький Валерка должен банки таскать в коридор, но голова кружится от пара, а банка скользкая, тяжелая трехлитровая. Банка выскальзывает у него из рук и падает прямо на ноги, но во сне боли совсем не чувствуется, да и банка почему-то пустая оказывается. Отчего же тогда так страшно и пот льется градом?
Саша проснулась рано. Не от звука даже, от запаха: вонь от заварной лапши смешалась с ароматом растворимого кофе три в одном, и получилось химическое оружие. Продрав глаза, тоже решила набрать кипятку, сделать чай. Там уже заваривала кашу Лидия Павловна. Заметив Сашу, она наклонилась к ней заговорщицки:
— Как легла на один бок, так и лежит, не вставаючи! Не пошевельнется. Небось самой стыдно. В глаза людям смотреть. Плачет поди.
Саша набирала воду. Лидия Павловна дефилировала по вагону, а подходя к своей плацкарте, так зыркнула на ту, со второй полки, разве дыру не прожгла.
Позавтракав, Саша скатала матрас, чтобы девушка с верхней боковушки могла спуститься. Но она не спускалась. Лидия Павловна многозначительно со всеми перемигивалась. Катюша робко надкусывала пирожок, следя, чтобы ни одна крошка не проскользнула на лидиипавловнин матрас. Усач Валера, отекший и хмурый, пил растворимый кофе и ни на кого не глядел.
Девушка со второй полки не спустилась и к обеду. Наверное, и правда переживает, подумала Саша. Может, плачет человек.
Поезд еле тащился. Саше выходить. Она побросала в сумку мятые поездные вещи и влажную от зубной щетки косметичку, затолкала тяжелый ноутбук. «Слава богу, доехала».
Выходила в суете, ни с кем не попрощавшись, отчего Лидия Павловна поджала и без того стянутые в ниточку губы. Потянувшись за ветровкой, Саша увидела, что делает девушка со второй полки. Она не плакала. Девушка катала во рту леденец и играла в «Шарики» на телефоне.

