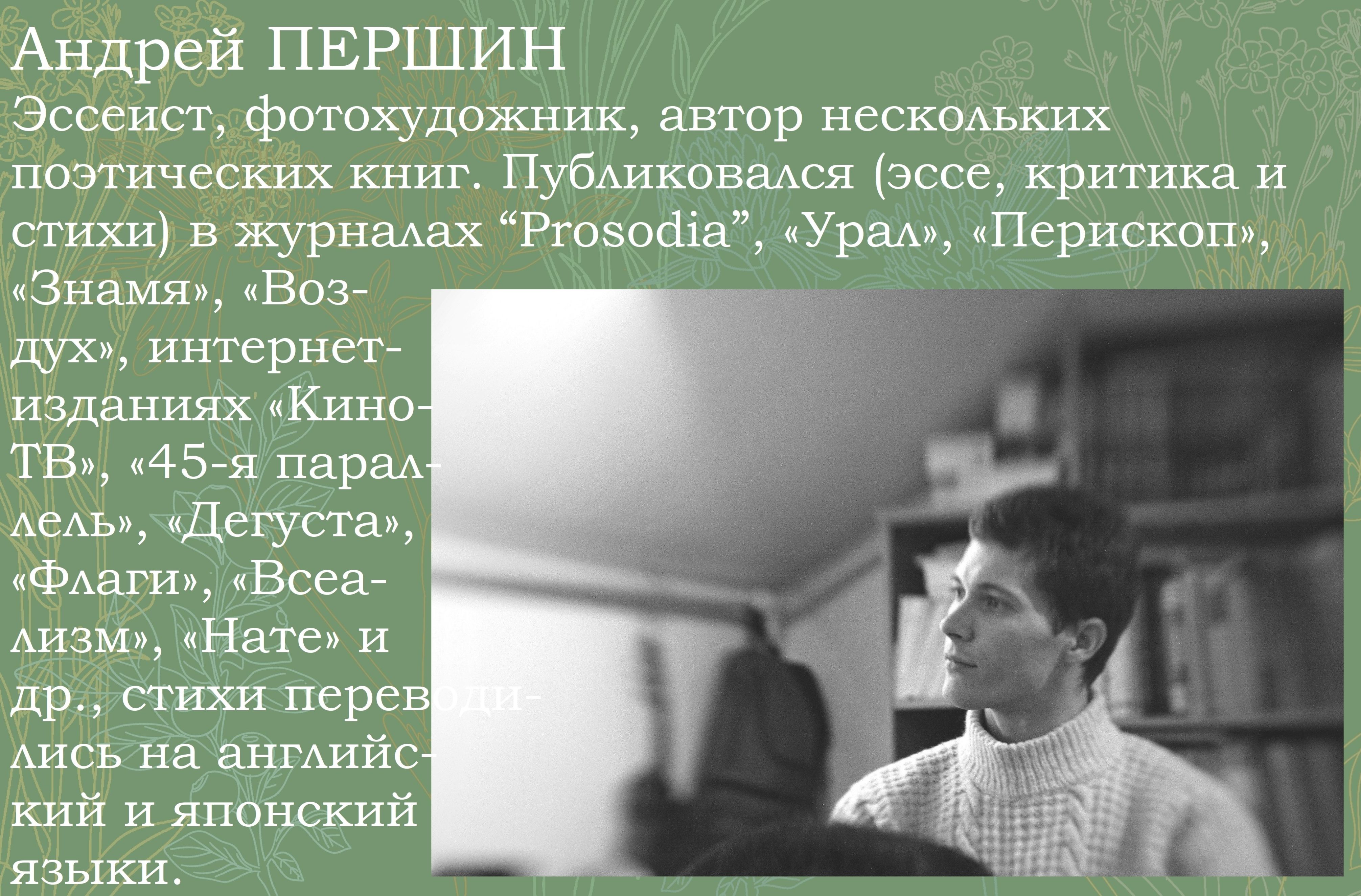(к/ф «Евгений Телегин», 2024)
С тобой сдружившись, ни о чем
не думать мог бы я,
но знаю — бьет в тебе ключом
избыток бытия.
Я боя не веду с судьбой,
я осознал давно:
я счастлив тем, что пьян тобой,
ты, черное вино.
(Теодор Крамер. О черном вине.
Избр., перевод Евгения Витковского)
Гениальность — именно это слово звучит в фильме первым. «Гениальность является здесь как бы особым видом высшей мужественности». Что бы мы ни выбрали в этой фразе, получим готовый ракурс для всей истории. Метаироническое распутье. Гениальность, например, подсказывает начать с конца, ведь жизнь с нее не начинается. Перед нами вольное переосмысление «Евгения Онегина», в котором, однако, Евгений Ткачук-Телегин-Онегин выкапывает из могилы Ленского-Ленина, и тот вдруг обнаруживает способность идти в обнимку с другом по полю, куда-то в сторону храма, где что-то мерцает, а еще в сторону рассвета, где будет совсем светло. Впрочем, Телегин, похоже, и Цоя лучший друг.
Здесь мне хочется сделать драматическую паузу, а еще вспомнить две реплики Годара. Они бесспорно уместны в гостеприимном и синкретическом контексте фильма. В 60-х годах прошлого века за Годаром уже закрепилась слава культурного героя и ниспровергателя. Подобно Джойсу и Пикассо, он жадно набрасывался на памятники прошлого, создавая свою невольную антологию, полную формальной эклектики и всевозможных гибридизаций. «Прежде я писал свои критические работы, а теперь снимаю их», — заявлял мастер, запросто снимая все возражения. И всё же споров было немало. Говорят, однажды ему предложили признать, что и в его фильмах должны быть, по крайней мере, начало, середина и конец. «Разумеется, — ответил Годар, — но не обязательно в таком порядке».
В фильме Виктора Тихомирова мы сталкиваемся с похожей проблемой «литературной» стилистики. Герои обсуждают фабулу Пушкина и находятся в ней, переписывают стихи или слушают критический разбор повествования. Сплошные аллюзии, реминисценции и возврат к театру, никакой реабилитации физической реальности. Если вообразить историю кино как историю освобождения от театральных моделей, сначала — от театральной «фронтальности», затем — от театральной манеры игры, и наконец — от театральной обстановки, то фильм покажется очевидным шагом назад. И даже не одним. Как и 60 лет назад, кого-то может оттолкнуть чрезмерная, хотя и мнимая озабоченность идеями, концептуализация в ущерб чувственной целостности и выразительности. Впрочем, за прошедшие годы похожие приемы утратили свой авангардный и радикальный характер. Для иного зрителя акцент на них может даже показаться консервативным, подражательным. Что же остается между прошлым и будущим? Многочисленные отсылки к современности можно считать как оммажами, так и попыткой витализировать театральный и речевой коллаж, заставить фильм жи́ть, пускай и в тонком срезе настоящего времени.
Характер отношений с первоисточником тоже обостряется. «Классика — это книга, которую восхваляют — и не читают», — говорил Марк Твен. Итало Кальвино пошел еще дальше и дал четырнадцать определений классики в попытке ответить на вопрос о том, зачем же ее всё-таки читать. Например, такое: «классика — это книга, которой всегда есть что сказать своим читателям», или: «классика — это произведение, звучащее фоновым шумом, даже когда несовместимое с ним настоящее имеет полное превосходство». И вот уже «Евгений Телегин» кажется действительным выражением последней мысли, исследованием границ и условий существования классического сюжета. Исследованием или деконструкцией, развитием или распадом? У зрения нет цели, как и у памяти. Возможно, то, с чем мы имеем дело, — не сумма или разность альтернатив, но касательная. А ведь история может быть и переспевшим началом… В своем эссе о Годаре (1968) Сьюзен Сонтаг заходит с другой стороны, нащупывает границы не источника или смысла, но метаиронии: «Опасность столь щедрого использования иронии в том, что идеи приходится выражать на грани карикатуры, а чувства — на грани уродства. Ирония ужесточает и без того значительное ограничение в изображении чувств, обусловленное настойчивым требованием вести киноповествование в настоящем времени, в котором ситуации с менее глубокими эмоциями занимают непропорционально большее место».
Означает ли ирония непременно холодность, остранение, отсутствие острых чувств, обличение? Думаю, нет. В записной книжке 1960 года Эмиль Чоран обличает и расцвечивает ее саму: «…ирония — это признание в жалости к себе или маска, под которой эту жалость скрывают». Интересно посмотреть на сюжет и с такой стороны. Нужно заново учиться разговаривать, это происходит каждый раз, когда встречаешь себя.
Мне же и сам вопрос происхождения кино, в смысле поиска эстетической причины или прототипа, кажется совершенно спекулятивным. Волей-неволей мы исследуем возможности — технические, языковые, социальные, любые, — пытаемся ограничения превратить в синтаксис. Пускай, «энциклопедия русской жизни» «Евгения Онегина» превратилась в анти-энциклопедию фэнтези Телегина, разрывы в ткани фильма не драматизированы, а система эмоциональных тупиков не открыта для рефлексии. Самая эта непроницаемость означает собственную возможность, высвечивает ее контекст. Это заметно по тем характерным искажениям, какие претерпевают мотивы известные и типические в поле черного космического тела. Скажем, в своих знаменитых лекциях о кино Славой Жижек среди прочего касается современной мифологемы, так называемого «голливудского марксизма». Мнимой симпатии к бедности, которая на поверку оборачивается чем-то вроде вампирского мифа для высших классов, мифа о восстановлении эго противоречивых и сложных героев за счет общения с людьми менее искушенными и простыми. И тетушка Татьяны, и Телегин, и сама Татьяна проходят через что-то подобное. Это неудивительно, миф делает состоятельной любую коммуникацию. Органичный в «Титанике» Джеймса Кэмерона или в «Персоне» Бергмана мотив в «Евгении Телегине» оказывается раздробленным и будто привнесенным извне. Не то, как мы смотрим и видим фильм, но то, как фильм смотрит по сторонам, озирается. Свободный от баланса компесаторных приемов, сдержек и противовесов достоверной репрезентации, фильм сам по себе приходит в движение. Оживают рисунки, ползает в тине Варвара-лягушка, бродят герои, упившиеся черного вина где-то в чащобе, в середине повествования. Черное вино нужно вылить в черное озеро, его видения страшны. Без следов, без остатков — никто не может быть уверен, что вполне протрезвел. Если трезвость лишь подразумевается, а не изобретается, открывается, то ум всегда имеет вид опьянения.