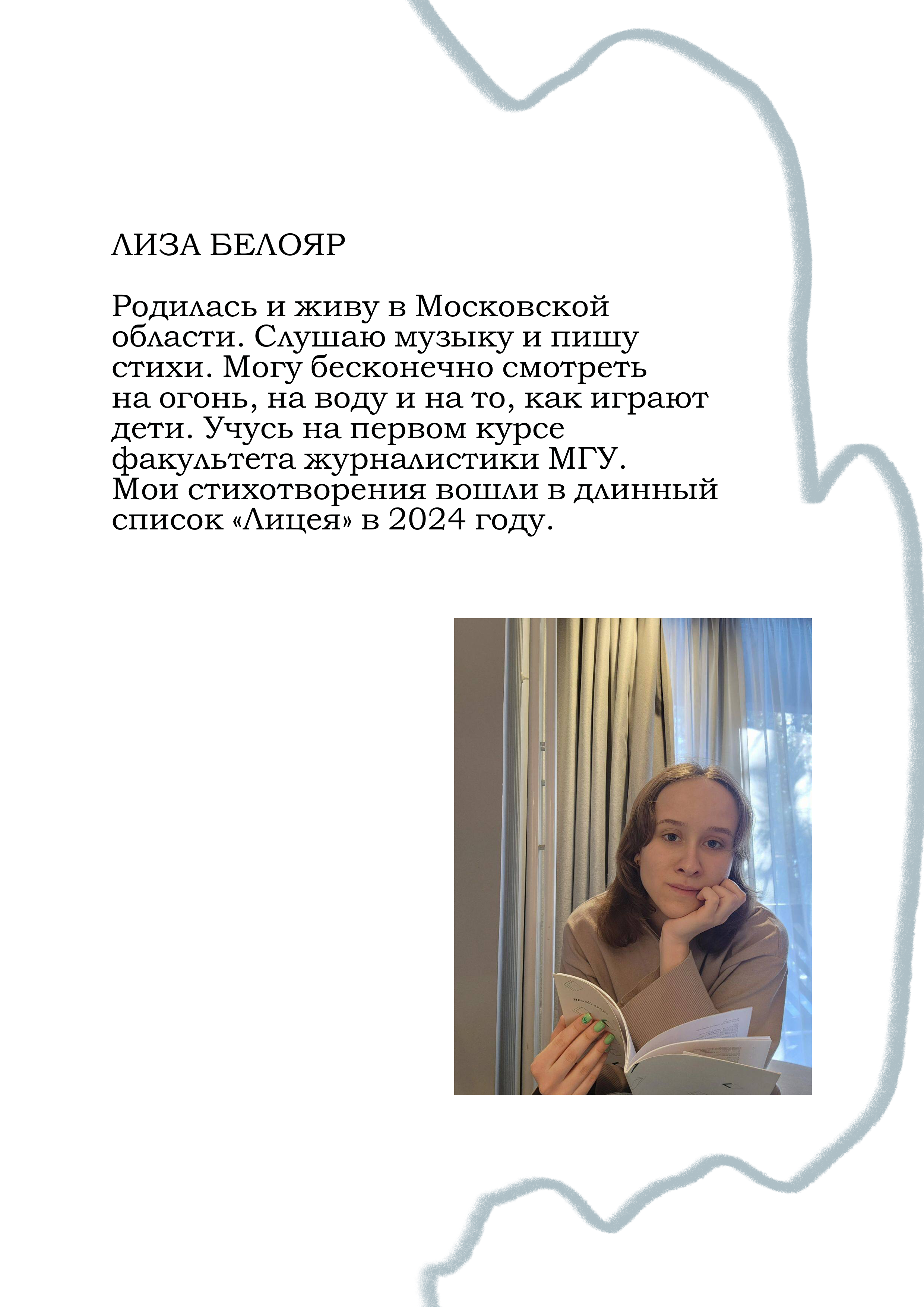Рид Грачёв был одним из говорящих с Хозяином языка — с тем, кого, тревожась о речи младенца, первым признал Владимир Бибихин. Ребёнок беседует с кем-то, кого мы не видим или не замечаем, но нельзя сказать «не знаем»: мы ведь знали его когда-то. Он, этот кто-то, нам неведом, но как бы не совсем, скорее — нераспознаваем. Выходит, и неизвестен, и незнаком здесь не точно, и неведом не в смысле «не знаван». Ребёнок не боится слёз, потому что в маленьких нет ещё того предубеждения, что слёзы — стыдно. Дети открыты для слёз и закрыты для предубеждений. Итак, ребёнок говорит с кем-то, имени кому мы не знаем, имя кого не названо, и всё-таки он есть. То, что мы не можем его назвать, не отменяет его присутствия: он присутствует неотвратимо. Бибихин называет его Хозяином языка. «Имени кому мы не знаем» — но ведь не знаем мы и того, что говорится. И тем не менее это речь, и мы не колеблемся перед тем, как назвать младенческое лепетание речью: у нас так же мало сомнений на этот счёт, как мало мы сомневались, подтверждая присутствие его. Проза Рида Грачёва похожа на детское говорение.
Рид Грачёв, говоря о детстве, говорил из детства, и потому не боялся слёз. Только его принятие слёз другое, прошедшее огонь и воду и поднявшееся выше, над головами всех. Принятие слёз — невозможность действовать так, как уже давно делалось и устоялось, как действуют все. В тихом согласии со слезами, означающем пропущенность-через-себя мира, или — в просторе, расчищенном этим согласием, рождается речь писателя. Простор, открывшийся вдруг как место, не может быть запущен (где есть земля, там взойдёт, потому что не может не взойти), его наполняет слово. Оно, как служащее пониманию мира, занимает опустевшее место.
Рассказ «Машина», открывающий сборник, напомнил мне предвоенную прозу Геннадия Гора («Окно», «Пила», «Горячий ручей») — тексты в духе магического реализма. Но если считать магический реализм способом восприятия действительности, станет ясно, почему этот путь восприятия так часто и так наглядно представляется при воспроизведении детского сознания. «Горячий ручей», например, — это рассказ о потере ребёнком отца и матери, и повествование в нем ведется из глубины детского сознания, искажённого и надломленного ходом истории, течением «горячего ручья». Таким образом, стремление к передаче детского сознания — недостаточная мотивировка для того, чтобы писать в духе магического реализма: нужна еще масштабная трагедия и надвременная боль — такая, чтобы её не способно было вместить мировосприятие ребенка.
Так происходит и с героем Рида Грачева: ребёнок не может понять смерть матери, потому что она «умерла просто», а не сражаясь с фашистами. Утрата потому так смутно отражается в мировосприятии мальчика, который, как будто не анализируя, сразу идет за творогом. В этом отсутствии анализирования и слёз зарождается первый конфликт мальчика и тётки, ребёнка и взрослого: она называет его «бесчувственным зверёнышем» оттого, что он не плачет. Антитеза «взрослый — ребёнок», встречаясь во многих рассказах цикла «Ничей брат», вырастает всегда из разномирия детей и взрослых, из глухоты и отсутствия понимания со стороны выросших людей. В письмах Грачёв, пытаясь обосновать безлюбие взрослого мира, разделяет жизнь на реальную и деятельную. О деятельной жизни он говорит с сожалением, что она стала заменой жизни реальной — жизни, в которой главной ценностью бытия является сама жизнь, «бесконечность возможностей её развития».
В рассказе «Победа» написано одиночество, свойственное детям. Так, мальчик из детского дома дышит и побеждает и себя, и их, и хмурь над своей головой. Он выше всех, он как бы превозмогает себя. В достижении победы, на которой настаивает заглавие, больше, чем одна ступень. К единичной и единственной победе мальчик идёт постепенно и поступенно, как в христианстве идут от греха к покаянию, когда каждая следующая ступень зависит от предыдущей, когда второе без первого невозможно. Победа даётся усилием и не сразу. В первый раз мальчик побеждает, когда, не имея силы себя сдержать и не желая более сдерживать, решает бежать за танкистом. Эта победа первая всеохватна, она своим первым намерением искупает проигрыш. Мальчик бежит, зная, что будет повержен (буквально — повержен на землю) неравенством силы, но зная, что уже не проиграет, потому что бежит, потому что решился на это. Вторая победа оказывается сложнее, чем первая. Она — смирение мальчика и непривычное для детства умолкание. Она — невозможность просить, когда всё главное уже спрошено (он сказал всё, что хотелось), когда больше ничего не осталось, когда тот, кого ты просил, проявляет слабость. Перестать просить нужно, чтобы сохранить себя.
Слабость Ирины Петровны не в бессилии помочь мальчику, а в отказе от настоящести. Победа мальчика не в доказательстве нормальности, а в отказе продолжать разговор. Важно — умение вовремя, не по-детски точно вовремя смолкнуть, и тихость, и значение этой тихости. Можно отметить с первого прочтения ту силу, ту пропущенность-через-себя мира, когда за детством слышится победа духа. Итог противостояния обнаруживается где-то на высоте, до которой нельзя подняться с первого раза. Это как гуляние по воде. О том, что победа для Рида Грачёва — это взросление, каждый в поте лица сделанный шаг, пишет Валерия Кузьмина в «Попытке понять»: «Победы внутренние, победы над чем-то в самих себе не делают жизнь этих людей легче и беззаботнее. Они вносят в их жизнь огромное напряжение, быть может, даже трагедию, но дают ощущение силы собственной личности». За считаные минуты мальчик взрослеет настолько, насколько взрослит жизнь, когда мы говорим, что она «потребовала». Такое взросление не способен вместить его возраст.
Много раз произнесённое, слово наталкивает на мысль, что дело не в произносимом. Сложным усилием достигнутая победа в доказательстве не чего-нибудь, а нормальности подбрасывает догадку, что сказанное не важно. Поспешность, с какой говорятся два спорящих слова, теряется перед размахом и ширью той силы, которую прежде я назвала победой духа, и делает яснее недостаточность, недосказанность произносимого: кажется, что слово «нормальный» неточно как слишком малое для того, за что идёт спор.
Большой художник, умеющий хранить детство, остаётся поэтом и в прозе. Проза Рида Грачёва поётся. В рассказе «Машина» ритм появляется там, где есть надвигающееся неизбежное: «Потом было: улица в гору, белое солнце, черное солнце сверху под горку прямо на нас. Быстро на нас». Слово Рида Грачёва существует в тишине, в её мелодии. Понятное тишине и понятное только в ней, оно даёт запрос или требование на пристальное и долгое хранение и слишком дорого стоит. Рефрен в рассказе «Победа» — попытка продлить своё слово, не дать ему умереть. Мальчик, за короткое время сделавшийся взрослым без оглядки, без поворота и навсегда, побеждает тем, что сберегает слово внутри себя, оставляя его звучать. Слово, звучащее в тишине и принадлежащее ей, невозможно без любви. В этой любви, понимающей и принимающей, главная правда Рида Грачёва.
Литература:
- Грачёв Рид. Ничей брат. М.: Слово/Slovo. 1994.
- Грачёв Рид. Разве просит арум у болота милостыни? // Соло. 1991. № 6.
- Юрьев Олег. Неспособность к искажению // Новый Мир. 2014. № 8.
- Колесникова Е.И. Ленинградский сизиф: творческая судьба Рида Грачёва. СПб: ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом).
- Кузьмина Валерия. Попытка понять // Звезда. 2023. № 4.