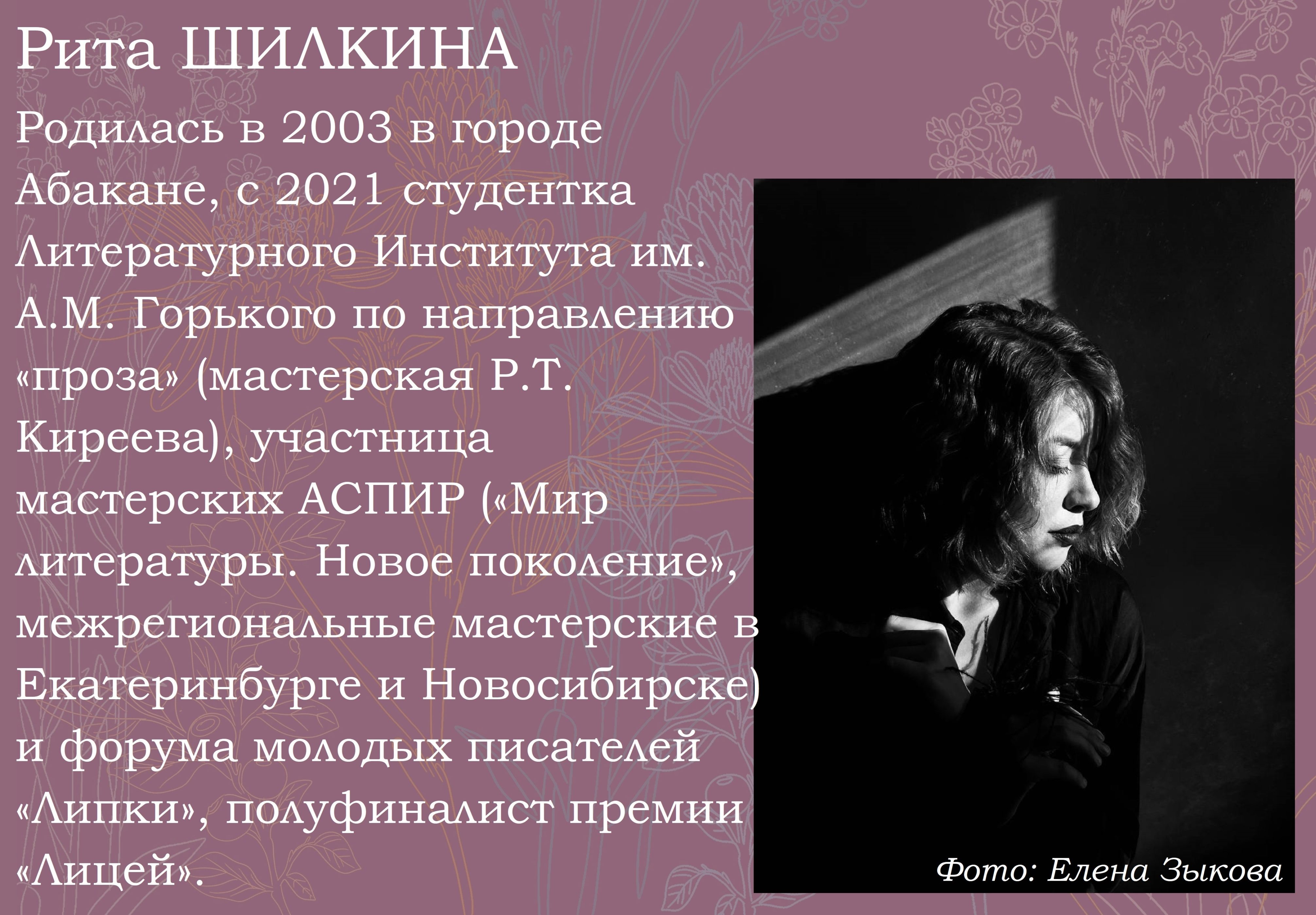
III
«Два дня не писала. Вернее, писала, но стихами! Как там у Платона? Каждый, кого коснется Эрот, становится поэтом… Стихи вышли жесткими, хлесткими, подруга прочитала, сказала, что есть что-то от Хлебникова. Я — Хлебников, а ты — хлеб. Или я — Маяковский, он ведь тоже о любви страшно писал? Я — Маяковский, ты — Лиля.
Так искренно всё, честно, всё — кровь, льется и льется, так, что только и остается, что ловить фразы. Кто кого ловит — ты или тебя? Кто на кого охотится — ты на слова, слова на тебя, я на тебя, ты на меня, я на тебя, ты — на слова, я — на слова, ты — на меня? Кто кого пишет — я или меня? Что я, если напишу: «на улице ко мне пристал пятнистый, зеленоглазый кот», напишу и забуду, пройдет год или четыре, и ко мне в самом деле пристанет кот, притом пятнистый и зеленоглазый? Мы предсказываем или мир по нашим предсказаниям строится?
Я так Чайку Чеховскую люблю, совершенно по-особенному, я в ней и Треплев, и Нина, и Тригорин, и Аркадина, словом, все — я! Мне, знаешь, что сказали, когда я о ней рассказывать начала: «Да что вы про творчество знаете? Да рано рассуждать, вы поживите, посмотрите, а потом рассуждайте». Рассуждения — это что, возрастное, что ли? Молчите до тридцати! Молчите, пока не выйдете замуж, пока не женитесь, пока не заведете детей? Напишет восьмилетний ребенок рассказ, и что же — он хуже рассказа какой-нибудь детской писательницы? Это же от души, от сердца! Писательница пишет для детей, а дети — о себе, и что, скажешь, художественности не хватает? Может, восьмилетним она и не нужна, кто их спрашивал?
Но я записываюсь, записываюсь, может, тебе неинтересно, может, тебе интересно было бы о кредитах почитать? Увы, мне о кредитах неинтересно, давай о чем-нибудь общечеловеческом, о том, что все знают и все понимают. Опять все… Откуда я знаю, что ты знаешь? Может, я про море начну, а ты про горы хочешь? Не могу же я себя пересиливать и о горах писать, горы — это твое, а мое — море.
Был у меня знакомый, так вот, комиксы любил и меня их читать заставлял, после двух томов о Росомахе разошлись, он меня в них впихивал, а я что? Я из уважения полистаю, но, когда условия «либо так, либо никак» — это, извините, никак. Хотя Росомаха не при чем, как и крошки в кровати, перхоть и сигаретный дым. Это всё его, а когда вы вместе, «его» становится моим, а с сигаретным дымом сложно. Мне сложно, кому-то другому, тому, кто любит, несложно, а мне… Положит голову на колени, отойдет, а я на брюки смотрю, не осталось ли на них чего? Это любовь, что ли?
Раньше меня пугали книги про древних созданий, которые прилетали из космоса и, превращаясь в клоунов, съедали детей, а теперь меня пугают книги про нелюбовь и одиночество. Раньше я повсюду видела этих клоунов, а теперь я повсюду вижу людей, которые смотрят на закаты и вздыхают. Смотреть на закат — это одно, любоваться им — другое, так вот они именно смотрят. Как избавиться от этого страха? Повзрослеть можно за неделю, за день или ночь, а поюнеть как?
Уже не тебе, уже себе пишу. Тебя в это втягивать не хочется, ты во что-то другое втянут. Скоро отправлять курсовую Александру Андреевичу, а у меня ни страницы. Он так мои доклады слушает, что кажется, не слушает — тотемный преподаватель».
…
— А эт че, ребят, сигаретки есть? Я свои, прикиньте, в куртке забыл, а там этих курток на столе навалом!
Белый с Щербаковым переглянулись, вытащили руки их карманов, Щербаков завел их за спину, а Белый почесал бровь. Он хотел что-то сказать, но в дверях показалась Сеткина. Она, как и Родионов, несколько изменилась: и без того большие глаза раскрылись еще шире. Некоторое время постояв неподвижно, она вытащила из кармана джинсовой юбки пачку Мальборо с кнопкой. Все вытянули по тонкой сигарете, она достала из другого кармана зажигалку, и, пока искала, из него вывалился автобусный билет и бежевая пуговица. Пуговица покружилась и провалилась в щель между ступенями, Сеткина присела на корточки, чтобы достать ее, но длины пальцев не хватило, пришлось вставать, стряхивать с ладоней землю и поджигать сигареты. Она бы передала им зажигалку, но никто не пошевелился.
— М-да, м-да, — только и произнесла.
Белый держался уверенно, Щербаков отвернулся, чтобы как можно тише прокашляться, Родионов затягивался, представляя, что он — Кертисовский детектив, а Сеткина курила буднично, неохотно. Половина их класса танцевала в клубе, другой половины не было. Они были, но не танцевали.
— Мне что пуговица? Мне ее сыну на куртку, он в четвертом классе, смешной такой, не могу, на тройки учится, машинистом хочет стать. Странная мечта, если так подумать.
— Не, не, нормальная, — покачал головой Родионов. — Я пастухом хотел стать, но ниче, обошлось как-то.
— А я ветеринаром, — кивнул Белый.
Щербаков молчал. Он мечтал быть футболистом, эта мечта пришла к нему в шестилетнем возрасте и не уходила до сих пор. Он смотрел на свои руки и думал, что любит их меньше ног. Руками он лепил вареники, ими же раскатывал тесто и крутил мясо через мясорубку. Он не любил мясо, не ел его, но крутил, морщился, наблюдал как красные жгуты, тошнотворно хлюпая, падают в тарелку. Кто сказал ему идти на повара? Если он мечтал стать футболистом, если ему суждено было им стать, нужно было ослушаться врачей, выйти на поле и играть, лишиться ноги, но играть. Это было бы страшной ошибкой, но он бы не мучался чувством вины, не плакал бы, смотря матчи по телевизору. Они всё ему говорили: вот че ты там к экрану прилип, поработал бы, они говорили: че, опять, Димк, нажираться как свинья, — а он ходил в бары не ради алкоголя, друзей или женщин, а потому, что в них висели телевизоры. После игры можно было поговорить, покричать и уронить кого-нибудь со стула, словом, отвести душу.
— А может, пусть становится машинистом, — под нос проговорил Щербаков, а потом поднял глаза и посмотрел на женщину, бывшую некогда девушкой, которую он любил. — Ну станет машинистом, ну и хорошо, может, судьба у него такая.
— Яблоко от яблони, — хихикнул Родионов.
Все промолчали. Большие телячьи глаза Сеткиной блеснули, Щербаков пожевал щеку, Белый молчал. Родионов смолк, припал к бутылке и подумал о родителях, продавщице и бухгалтере, о том, что они прожили вместе тринадцать лет и все эти тринадцать лет не говорили о любви, о платежах, ценах и политике, говорили, что чувства прошли, говорили, но о них самих — никогда. Перед работой мама скользила губами по папиной щеке, на этом всё и заканчивалось. Рассказывая Белому про развод, Родионов не добавил, что жена ушла от него, потому что он оставлял на вытяжке кухонного гарнитура, под потолком, звукозаписывающие флэшки и прослушивал ее разговоры с матерью, братом, психотерапевтом и самой собой. Его ничего не смущало, он хотел правды, а она взяла и ушла, не расспросила его о детских травмах, не спросила, зачем и почему он ее прослушивал, просто-напросто собрала вещи и уехала не то к той самой матери, не то к тому самому брату. Он, чтобы заглушить боль, обвинил ее в измене, решил, что она укатила ни к кому иному как к своему психотерапевту, какому-то там Илье. Мало, что бессердечная, так еще неверная, дрянь!
Он не сказал «прости», он сказал: «я хотел правды, ты вечно врешь». Ты вечно врешь, ты мне изменяешь, у тебя было столько мужчин, ты переписываешься с ними до сих пор, ты — шлюха, я должен был это сделать, я люблю тебя, я правда тебя люблю, я хочу, чтобы между нами не было никаких секретов, это — мой способ любить, терапевт говорит, да какая разница, что он говорит, ты не поняла, ты, как обычно, ничего не понимаешь. Лена понимала, Лена всё понимала, но… Подсолнечное масло зашипело, она накрыла сковороду крышкой, масло уже не шипело, оно лопалось, как кукурузные семечки в микроволновке. Если жареные овощи — попкорн, то ее жизнь — кино, жаль, что нельзя просто смотреть, жаль, что нужно обязательно участвовать. Необязательно, конечно, но… Сюжет еще не закрутился, еще не завязался в мертвый узел, пока что узел контрольный, а контрольные узлы развязываются. Какие еще есть? Встречный, пьяный, сонный, самозатягивающийся — Родионов делает затяжку, травяной — сворачивает края бумажной полосы, проводит языком по сгибу, бабий.
Он наливает себе еще чая, насыпает в него еще три ложки, ложки, кто олень и носит рожки? Ты ничего не сделала, но ты думала, а мысли — это почти поступки, мысли — это уже поступки, я о тебе забочусь, как ты дожила-то до тридцати, не веди себя как ребенок, ветка — это ветка, роза — это роза, школа — это школа, я прав, ты нет, я вижу, ты слепа, только ты не Бах, Леночка, успокойся.
Масло перестало лопаться, кино продолжалось. Продолжение следует, преследует… Следствие вели, причинно-следственные связи — как ты мог это сделать? Какая такая правда дает право прослушивать другого человека, не другого, а родного, того, с которым живешь? Что ты хотел услышать: я не люблю его, я хочу развода? Ты услышал: я не люблю тебя и хочу развода или… Или не хочу — как же я буду жить одна, жизнь в одиночестве страшнее жизни с тем, кто тебя прослушивает. Господи, господи, да неужто? Да я в долги залезу, уволюсь, скрипку больше в руки не возьму, это каким же надо быть человеком, чтобы не то, чтобы нарушать, а чтобы забывать, что есть личное пространство? Как ты мог, как ты мог, за что и что тебя сподвигло, но самое-то, самое главное — почему я думаю, что в этом нет ничего такого? Шлюха, переписываюсь с другими мужчинами… Да я ведь спасения в этом ищу, ты же меня изводишь! Ты же эту правду ищешь, а я любви хочу! С каких пор мы любим ради того, чтобы друг друга контролировать? С древних, с незапамятных, на каждого собственника — вещь, на каждую жертву — агрессор, лучше в самом деле Бахом быть.
— Помнишь луну, воск? Тогда всё казалось таким настоящим, таким искренним. Мы тогда не про Баха, а про Бетховена разговаривали…
Родионов молчал. Он не знал, что ей ответить, не мог подобрать слов для той, которой жаловался на свою бухгалтершу-мать, той, которой говорил: «да я бы был с тобой, даже если бы у тебя было трое детей от другого брака». Говорил он, говорил… Птица-говорун, человек-язык, доченька, давай не про человеков-пауков, а про человеков-языков почитаем?
— Я еще думала: вот, будет у нас с тобой сын, будущий Моцарт! Только с другой судьбой, конечно.
У тебя не было детей, не было детей и хорошо, что не было. Хорошо, что не было, чему бы они у тебя научились — на валторне играть? Валторнист ты хороший, валторнистом и оставайся, твоя правда — в музыке, моя — в людях, я тоже музыку люблю, но кроме скрипичных и басовых ключей еще столько всего! Что же я буду — одной музыке предаваться? Предатель. Если в жизни всё так, как у нас с тобой, то лучше в музыку. Только я верю, верю, что всё не так и бывает по-другому.
Она вытирала пыль и разговаривала с братом по телефону, рассказывала ему про цветотипы, шутила, мол, от Вивальди пошли эти весны, лета, осени и зимы. Интересно, какой цветотип был у Анны Жиро? Наверное, все сразу, в его глазах — не наверное, в глазах возлюбленных возлюбленные — и весна, и лето, и осень, и зима, и Вивальди, и Жиро. Она повздыхала над тем, как прекрасна была любовь в восемнадцатом веке, тут же посмеялась, что сам восемнадцатый век не был столь прекрасен, да и всё от случая к случаю, и тогда-то она и отыскалась. Темная флэшка на вытяжке кухонного гарнитура, ее можно забыть в сумке или в рюкзаке, на столе или в компьютере, но не на кухонном гарнитуре, на кухонном гарнитуре забывают пыль. Кто вытирает пыль с холодильников, кто ставит стулья и забирается на них только для того, чтобы стереть пыль с верхних полок? Люди, которые не могут жить в грязи — их так воспитывали или уборки для них — искупление, мол, я чуть не довел(а) свою женщину, своего мужчину до самоубийства, зато! в комнате чисто, вещи разложены по цветам, носки с носками, трусы с трусами, рубашки выглажены, не появлюсь на людях в мятой толстовке, потому что в мятых толстовках ходят одни бомжи и… И те, кому неважно — мятая толстовка или выглаженная. Я ставлю на них крест, я на всех кресты ставлю, так ведь удобнее, так ведь проще. Сортировать носки по цветам — просто, быть с тем, кто их не сортирует, — нет, ставить на кресты — просто, не ставить — нет. Мир работает вот так, потому что так понятно, мир не работает вот так, потому что «вот так» — непонятно. Мир работает, понятно или нет, его или любишь, или ненавидишь, я — ненавижу, ты — любишь, за что, почему? Наверное, это я и выслушивал, когда прослушивал, наверное, я тоже искал любовь. Не ко мне, ко мне-то ладно, меня можно и не любить, а к жизни, она же бьет нас всех, она же тебя бьет, за что и почему ты ее любишь? Люди голодают, войны идут, кругом смерть, кругом ложь, лицемерие, изнасилования, убийства, грабежи, зарытые таланты, глупость, по-че-му ты продолжаешь любить? Неужели тебя гнобили в школе, неужели у тебя никто не умирал, неужели ты никогда не влюблялась в придурков, неужели не оставалась без крыши над головой и без рубля в кармане, неужели тебя не били родители?
Всё это было, не всё, но было, ну и что?
Он встал из-за стола, не помыл за собой кружку, хотя обычно (сегодня — не обычно, сегодня необычайно) мыл, не мог не мыть — передергивало, и вышел из кухни. Дверь звякнула. Она дожарила овощи, взяла вилку и прямо так, не перекладывая баклажаны, лук и помидоры на тарелку, стала есть. Мама запрещала царапать сковороду вилкой, но она больше с ней не живет — можно царапать, сковороды тоже больше не будет — это его сковорода, он покупал, а они разъезжаются, значит, заберет. Если не заберет, сама отдаст: все эти «посмотри-какой-я-молодец» ей не нужны. Молодец, молодец, возьми с полки леденец. Она шумно выдохнула. Может, всё-таки в музыку? В музыку, как в монастырь, скрипачка-монашенка.
Могла ли она его понять? Она понимала. Могла ли простить? Не прощала. Страшно боялась будущего, страшно боялась того, что его не будет, но простить всё равно не могла, не по природе было. Против многого можно пойти, но не против природы, там ломайся-выворачивайся, а она всё равно выигрывает. Одиночки к людям идут, но всё равно остаются одиночками, рубятся в настолки, смеются, а в душе: «один среди вас, но родной, но чужой», прислуга рвется в верха, а дашь им власть, они не знают, что с ней делать, верха сдерживаются, сдерживаются, а потом устают и начинают всех затыкать. Родионов был из верхов, ему бы не валторне играть, дирижировать, и он дирижировал — своей женой. Она была из горделивых, инструменталист — существо тонкой душевной организации, но существо несвободное, загнанное в рамки и расписания. Лена знала, что связана по рукам и ногам, но ей хотелось этого, внутри она была свободна. Внутреннюю свободу притупил оркестр, возможно поэтому она и терпела выходки мужа, а возможно, потому что любила его, сложного, истерзанного. Гордость же оркестр не притуплял, выращивал. Выращивал, выращивал, раст-ращ, овощ, лучше бы Родионов был овощем, а не недоверчивым и мелочным мальчишкой.
Его недоверчивость породили родители. Он мог бы ее победить, но не победил, не получилось, не фортануло — так объяснял свою закрытость. Чем закрытость объяснялась на самом деле, Родионов не знал, может быть, его доверие подорвал их пес Полкан. У шестилетнего мальчика есть друг, они играют в мячик, мальчик прячется, друг ищет, мальчик чешет собаку за ухом, собака довольно высовывает язык, какие клыки, большие, острые, хорошо, что Полкан — добрая собака, Полкан… Полкан — добрая собака, Полкан… Прошло столько лет, Родионов не помнит деталей, но помнит, как в тазик капала кровь, как из дома выбежал папа, закричал, как что-то громыхнуло, и Полкан упал. Больше у мальчика друга не было, больше у мальчика не было друзей. Если этот соврал, значит, все они врут. Если зла пожелала собака, чего ожидать от людей?
Елена знала об этой истории, конечно, знала, но могла ли она ей всё оправдать? Не могла, поэтому доела овощи, оставила сковородку на столе, день-немытой-посуды, и вышла из кухни. Вещи переехали из шкафов в сумки, Елена переехала из своего дома в дом родительский. Ее снова ожидала жизнь, снова новая.
…
«Сегодня посмотрела “Метрополис” Ланга. Господи — это 30-е годы, а кажется, будто снято в 80-х, не хуже “Новой надежды”, умеют же люди придумывать! Я бы так не смогла, наверное, есть бесконечная фантазия, а есть конечная, у меня она конечная, ограниченная. В детстве я мечтала снимать фэнтезийные фильмы, сюжеты придумывала, миры, а теперь вот ничего не придумываю. Мне и писать-то особо не о чем, письма — максимум, что могу из себя выжать, а хотелось бы, может, рассказов, повестей, романов! Я, наверное, бесплодна, я, наверное, из тех, кто оценивает, а не создает.
Думаешь, я не бралась писать? Бралась, конечно, но только ничего не выходит, всё какое-то плоское, какое-то несерьезное, а хочется, чтобы выпукло и серьезно, чтобы не просто написал, а хорошо написал, точно. Может, мой удел — это научные работы? Научные работы писать проще, чем творческие. Не говорю, что всем, но мне — проще, ничего не надо выдавать, тема есть, темы придерживаешься, и ничего, получается. Есть великие реалисты, их, по негласным правилам, престижнее читать, а я всё же фантастами восхищаюсь: откуда в голове берется то, чего нет? Откуда образы эти — из бессознательного? Я тоже могу написать «заезрзжий жмых», образ даже его нарисовать, но это одно — придумывание наугад, а у Толкиена того же как всё связано, до мелочей описано-расписано! Могу прикрепить отрывок из моей незаконченной трилогии про лес, почитай: “Крестецкие Земли не отличались плодородной почвой, поэтому сельским хозяйством здесь мало кто занимался. Основным делом считалась добыча горных руд, полезных ископаемых и драгоценных камней. Народ города-замка не был многочисленным, зато жил на широкую ногу. Зависть брала даже при виде интерьера простого рабочего-шахтера — комнаты украшались каменьями с Молочных Гор. В гостиных блестели опалы, в кухнях и обеденных переливался горный хрусталь — минерал, символизирующий чистоту. Ходили поверья, будто он защищал пищу от ядов и придавал ей божественный вкус. В спальнях пестрили фенакиты, в кладовых — хризопразы, на чердаках хранили воробьевит. Роскошью не брезговали даже в уборных, вешали туда изделия из алмазов. На язык напрашивалась метафора: «прекрасное среди дерьма»”. Про метафору — кошмар, конечно, но всё остальное неплохо, неплохо для тринадцати лет. Или вот, например, из повести про волка: “Гамлет чувствовал себя самым одиноким существом на планете. Еще вчера, в буквальном смысле — вчера! он нежился на мягкой подстилке на крыльце дома. Теплые Руки бренчала на гитаре и мелодично притопывала ногой. Он подхватывал и завывал, а она смеялась. Тогда не было ни соломы, ни туч, ни ветра. Звезды сверкали ярко, на полянке резвились светлячки. Вчера было счастье, сегодня — печаль. Жизнь непостоянна. Теплыми Руками Гамлет называл хозяйку. Настоящее имя он знал, но признавать отказывался — по признаку запоминалось легче. Помимо наличия теплых рук, она пахла сиренью, носила во рту железяки и когда ну уж совсем несдержанно хохотала, хрюкала. Смотрела иногда голубыми глазами, иногда серыми. Рыжие непослушные волосы собирала или в хвост, или в пучок. Гамлета она подобрала на одной из прогулок по лесу с Громким Голосом, ее отцом”. Про непостоянную жизнь и счастье-печаль смешно, конечно, неумело, но тогда я хотя бы что-то писала, а сейчас…
Откуда берутся идеи? Как отличить хорошую идею от плохой, где эта грань — в чем-то, что чувствуешь? Так один ведь чувствует одно, а другой — другое. И всё же жаль, что я не в литературе, литература — царица искусств, я готова поспорить об этом с Да Винчи. О, братья мои, разбейте, разбейте старые скрижали! Между живописцем и поэтом, пишет он, такая же разница, как между телами, разделенными на части, и телами цельными, ибо поэт показывает тебе тело часть за частью в различное время, а живописец — целиком в одно время. Однако разве может живописец изобразить жизнь внутреннюю, можно сказать, может, но дойдет ли до смотрящего именно то, что изображалось? Где уверенность, что тоска воспримется именно как тоска, а не как влюбленность? Уверенности нет! Я долго могу спорить, но всё же оставим Да Винчи и перейдем к чему-то более насущному: вчера читала рассказы одиннадцатилетних и тринадцатилетних детей и удивлялась их мудрости. Есть чему поучиться. Девочка пишет о смерти собаки, а я думаю: что же может быть честнее? Когда передо мной оголяются, как могу я судить — душу судить буду, что ли? Я не критик, я — ценитель.
Так у нее в тексте черным по белому написано: если любишь — отпусти. Отпускать сложно, особенно если любишь. Если любишь, хочется, чтобы тебя любили в ответ, чтобы только ты, только тебе и о тебе. Я перечитала свои прошлые письма, про победы, про соревнования… Они не про любовь, а про себялюбие. Мне хотелось выигрывать, не чтобы доказать что-то им, а чтобы доказать это что-то себе: ты справишься, жизнь продолжается, смерти до смерти нет, люди продолжают жить после войны и смерти родственников, с разбитым сердцем, без дома, ног и рук, они со всем справляются, и ты справишься. Сначала подумала: “не мне говорить о боли”, а потом передумала: и мне можно, всем можно, моя боль, она не такая как боль другого, но тоже боль.
Про победы — это всё, чтобы не отчаиваться делается, пробиваюсь и лезу тоже для этого. Так вот — я тебя отпускаю, другие люди — это самое обидное! — не карьера, чтобы их строить, не ты сам, чтобы что-то понимать и делать выбор, другие люди — это другие-люди. Вот это я Америку открыла! Открыла, да, еще раз открыла, потому что одно и то же открываешь по десять раз. Колумб был первым, и я — первая, единственное, мы по-разному первые. Всё приказывала своему сердцу, всё бросала его в других: люби этого, не люби того, чувствуй, не чувствуй… Сердце мне приказывает, а не я ему. Остается только любить, а любовь, если повезет или не повезет, сама выветрится.
Последнее, чего тебе желаю — это зла. Зла я тебе не могу желать, пожелать зла тебе — это как пожелать его себе. Если я что-то говорю, пишу что-то не то — это потому, что сама до конца всего не понимаю, мне в один момент всё одним кажется, в другой — другим, я только уверена, что это — настоящее. Не то, что между нами, а то, что во мне. Я не могу тебя судить, осуждать тем более, я не хочу думать, я хочу любить. Всё же любовь, она разная, может, до этого с другими тоже она была, просто другая, но сейчас настоящая эта, потому что это сейчас.
Писать я тебе больше не хочу, пока что не хочу, через пару дней, может быть, захочу — тогда и напишу, пара дней — это пара жизней, за них всё поменяться может».
…
Щербаков не верил в судьбу, но судьба в него верила. Он погружался в себя, погружал в себя мир, и кто от кого пачкался — Щербаков от мира или мир от него? Пачка сигарет в кармане, день лежа на диване, судьба спрашивала его: «за этим ли ты пришел, Дима?» Дима слонялся туда-сюда, но судьба продолжала верить, спрашивать: «за этим ли ты пришел, Дима?» Один и тот же вопрос, Дима рос, но оставался прежним.
— Я просто пришел, просто! — кричал Дима.
— Да, это — то, зачем я пришел! — кричал Дима.
— Или нет? — спрашивал Дима.
Они все спрашивали себя об этом, все и постоянно. Дима спрашивал, но только спрашивал, он не знал, что за ответами стоит идти, за ответы стоит бороться, он не знал, что вопрос — это уже половина ответа, стоит его только правильно задать. Правил игры заданы, играть-не играть, выбирать-не выбирать, сколько они всего оставили! Дома и родителей, блудные сыны и блудницы, как легко заблудиться, оставили возлюбленных и мечты, оставили себя, но оставить не предать, оставить — это остаться верным. Предательственно преданные себе, предай и останься преданным. «Дима, ты предан?» — спрашивала судьба, Дима отвечал: «Да, меня предали». «Дима, ты предан?» — спрашивала судьба, потому что Дима не понимал вопроса. Судьба — ходьба, пойди, послушай, посмотри, Дима, Дима, почему ты опять дома, Дима? Дома Дима был потому, что так спокойнее. Дом без друзей, неродные родные, родные — народные. Народные артисты, футболисты, вот кто родной, Дима! Дима не слышал, потому что не слушал, если бы слушал, мог бы все понять. Всё то, что поддавалось пониманию, понимание — сознание, расширяется одно, расширяется другое, и так до перевернутой восьмерки, перевернутые восьмерки — не шестерки. Шестерки — это перевернутые девятки, перевернутые восьмерки — это перевернутые восьмерки, символ однозначный.
Одозначные, двузначные, трехзначные, Белый тебе говорил о том, что подлинная жизнь раскрывается не через науку, а через творчество, которое «недоступно анализу, интегрально и всемогущественно». Не твой Белый, другой Белый, и тот, и этот — Белые, а значит, все твои, твой, мой, свой, чужой — кто кому кем приходился? Кто без кого обходился? Обходительность — это корректность, Дима, ты конкретно некорректный человек, корректные люди не говорят в лоб, «какой лоб!» — говорил отец, глядя на своего повзрослевшего сына. Его сын и впрямь повзрослел, созрел, вызрел, возмужал, почти что мужчина, хотя, почему почти что? Возраст — цифра, мужчина — состояние духа, «будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе, лишь бездарный покоряется судьбе» — писал или говорил, кто ж уж упомнит, Абай Кунанбаев. «Дима неужели, неужели ты бездарен?» — спрашивала судьба и всё бросала сыну своему, все они — сыновья судьбы или сыновья, дочери кого-то другого, новые и новые испытания. Дима не понимал, что судьба дает ему шанс все исправить, или понимал, но не готов был их проходить, готов был говорить: «как не повезло, как жаль, печаль», не готов был говорить: «ударь еще, ударь, ударь», без «тварь», а ведь те, кто не получают ударов, не получают даров. Хочешь дар — будь готов, хочешь дар — держи удар, несправедливо! Справедливо, жизнь — самая что ни на есть справедливая вещь, хотя и не вещь, говорит увещевателю — вещай, значит, должен вещать, говорит продавщице в магазине одежды — вешай это сиреневое пальто рядом с зеленой кофточкой, значит вешай, но сперва пойми, что жизнь этого хочет, а не твои покупатели. «Дурак!» — кричал Дима Белому, кидая в него карандаш с обгрызенным ластиком, голова-ластик, ластик обгрызен, Белый — голова, тогда еще, в четвертом классе, не столь начитанная, не столь просчитанная, но уже голова, кричал: «Сам дурак!» Все дураки, у всех все дурное, Сеткина плакала: «Дура, дура», Дима кричал: «Дурак!», Белый кричал: «Сам дурак!», Родионов ничего не кричал и считал себя умным человеком. Дураки — самые умные люди, самые умные люди — дураки, кто ничего не знает, тот знает всё, кто всё знает, ничего не знает, так ли это? Я не знаю, я — не знающий, а рассуждающий, рассуждающая, так ли важно окончание, так ли важен пол — кто я?
Дима, что ты так печален? Жизнь печальна? Ты печален, Дима, ты. Вспомни Репина, что он говорил и писал, кто уж упомнит: «Сначала художник рисует просто и плохо, потом сложно и плохо, потом сложно и хорошо, и только потом просто и хорошо». Это сложно, Дима, сложно, когда просто и хорошо, да и ты не художник, или всё же художник, каждый человек — художник, рисует свою жизнь, и ты, Дима, человек из Петушков, от Петушков до Подольска сто пятьдесят шесть километров, художник. Почему же ты сник, художник? Так судьба разговаривала с Димой, судьба-стрельба, сама выбирает, в кого и чем стрелять, кого чем наделять, обделять, все подстреленные, простреленные, но не обделенные, чем-то награжденные, кто и чем, кто и кем? Как много вопросов, как мало ответов, вопрос — это половина ответа, половинчатые ответы, Да Винчи их тоже искал, все ищут, не все находят, а те, кто находит, не может принять, понять. Принять значит понять или понять значит принять? Принятие — приспособление — выявление — выделение, Дима не хотел выделяться из толпы, не хотел ей поддаваться, хотел опираться исключительно на самого себя. Опора на себя — прочная основа, идеологическая, логическая, космическая, положись на себя и откройся космосу, откройся космосу и съешь тирамису, как великие идеи сосуществуют с тирамису, как тирамису сосуществует с великими идеями? Сложно, возможно, всё сложно и возможно, всё невозможно сложно, но если вспомнить Репина… Тирамису побеждает, тирамису есть, великие идеи тоже есть, но их нельзя съесть, а значит, тирамису побеждает, одерживает верх, победу, выдерживает возможную сложность и сложную невозможность, возможность… Возможно, Дима стал бы не величайшим, но выдающимся футболистом, футболисты — те еще артисты, не обижайтесь, футболисты, на правду не обижаются, не все артисты — футболисты, но все футболисты — артисты, хотя бывают и исключения, помимо исключений — отклонения, Дима не стал футболистом потому что не был артистом? Наверное, быть может, быть не может, что он им не стал. Если не стал, значит, может быть, станет, может быть, день настанет, может быть, лет в шестьдесят или восемьдесят, он встанет с кровати и восстанет, побежит. Дима побежит, и время вместе с ним, время-стремя, время-бремя, время бежит, летит, Дима не бежит, Дима сидит за прилавком и нарезает помидоры полукружками, они сидели за одной партой и наклеивали на картон кругляшки из цветной бумаги, желтый кругляшек из цветной бумаги — солнце, и Белый — солнце, светило, просветление. То было с другими людьми и в другое время, то было другое сидение, время-стремя, помидоры — не огурцы, сколько связей, сколько нитей и переплетений, так много, что однажды можно прийти к выводу, что помидор — это огурец. В конце-то концов, не конец, сколько у конца концов, конец бесконечен, бесконечность бесконечна, все такое бесконечное и конечное, что лучше уж о вечном — о помидорах. Дима нарезал помидор полукружками, полукружки — полудружки и полуподружки, вроде как дружки, вроде как подружки, но на половину, не полностью, не со всей полнотой они дружили, не со всей полнотой любили, кто кого любил, кто с кем дружил? Как кто кого любил — полностью или наполовину? От помидоров до любви — рукой подать! От помидоров до вечности, до беспечности, беспечность — к Сеткиной, Диму занимала утраченная мечта. Дима был мертвым мечтателем, он собственноручно убил свою мечту, отказался от нее, предал. Жизнь Диму не предавала, но он, он совершил страшное, непростительное, отвратительное, выворачивающее наизнанку, убийственное и непоправимое — предал свою мечту. В нем что-то оборвалось после этого, в нем оборвалась жизнь, он перешел из живущих в существующие, умер и не мог воскреснуть, потому что его мечта была в нем самым главным, основополагающим, первостепенным и первозданным, первым и заданным, как он мог, как он смел ее предавать? Он был чист перед другими, перед собой, перед Богом и судьбой, но перед мечтой, перед мечтой он был… Он не был, он ее убил, а она, мечта, в ответ убила всё остальное — других, его, Бога, судьбу. Бога с судьбой, конечно, нет, Бог с судьбой по-прежнему в него верили, они верили, что он ее может встать на путь истинный, еще может вернуться к своей мечте, к своей беде, но он не мог, не мог поверить, что может. Мечта сперва кричала и умоляла, чтобы ее оставили в живых, она плакала, завывала, выла, требовала, трепыхалась, сжималась, съеживалась, а потом стихла и начала растворяться. Желания тухнут, желания-спички, мечты растворяются долго и мучительно, мучительно долго, они разъедают, пожирают, пожинай плоды убитых мечт, мечты-мечи, замечено — намечено, раз намечено, воплощай, не прощай, не плошай. Мечты о мяче отфутболили Диму, Дима пропустил гол, его выиграли всухую, вголую. В голубом небе голубел закат — Белый любовался, любовался им и своей любовью, Дима не мог любоваться мячами, они были его палачами, мяч-палач, у кого-то палачи — мячи, у кого-то — кулисы, скольких актеров они задушили, палачи-ракеты, рак, недолетевшие до космоса космонавты, откройся космосу и съешь тирамису, палачи-самолеты, сначала «снимай трусы, иди в полет», а потом молчание пилотов, стремительное снижение и отчаяние. Отчаяние или смирение приходит в последние минуты?
Дима стал поваром, хорошо, что не вором, и Дима-футболист подбадривал его перед сном, он шептал: «вдох, выдох, ом-м-м». Не буквально, Дима мало что знал о медитациях, о народной медицине знал — спасибо бабушке, шептавшей на ушко: «лимон и имбирь, мед и кипяток», Дима выпивал смесь из имбиря, лимона, меда и кипятка и выбегал из дома, в зазоре мелькала пятка. Пока Дима выбегал из дома, чтобы погонять мяч, Димино погоняло — Щерба, Белый искал себя на картинах выдающихся художников. Он смотрел на Врублевского Демона, всматривался в его затягивающие глаза, потом отрывался от них и приклеивался к себе.
— Я — Демон Сидящий, — говорил себе Белый и присаживался на пол, — я — Демон Летящий, — говорил себе Белый и ложился, разглядывая свое отражение.
На голени налипали крошки, Демон Сидящий считал себя недостойным мытья полов, Демон Летящий оставлял Врубеля и выбегал из дома, чтобы погонять мяч, погоняло Саши — Демон, не Димон, попрошу, не Димон, Демон — это Врубель, Димон — это его одноклассник, как можно путать Демона с Димоном? Вы еще спутайте Артамонова с Артемоном, давайте, спутайте, Горький — это Толстой, а Толстой — это Горький! Впереди Белого ждала Москва и разочарование, он надеялся, что в Москве люди не спутают Артамонова с Артемоном, но увы… Очарование-разочарование, в своем невежестве они были правы. Кровавы были его глаза, когда он по прошествии лет читал эссе и находил в них Алексеев Платоновых и Андреев Толстых, хорошо хоть, что Андреев Леонидовых не было. Белый не был плохим человеком, не был лицемером, хотя умел держать лицо и измерять расстояние линейкой, преподаватели литературы — те же люди, но его раздражала, не вымораживала, а распаляла необразованность. В определенном настроении, в определенные дни он раздавал оценки направо и налево. Налево, налево, налево…
Родионов перестал есть, перестал спать, опять они к нему приходили, подходили и говорили: «Влад, Влад, нашел свой клад, а мы взяли и забрали, твари-твари, твари-твари». Твари, твари, каждой твари по паре, они забрали его первую тварь, значит, она была не его, его тварью была Лена, но он измучил ее, извел, отвел, отвадил ее от себя. Сам приманил и сам отвадил, приманка для несчастья, отвод от счастья, что такое счастье? «Щас я тя… — кричал его отец, кричал так, что на лбу надувались вены, а глаза были готовы выкатиться от орбит, крик по А-6 — «неблагодарная дрянь» — промах! Крик по Е4 — «сукин сын» — ранен, крик по Е5 — «ничтожество!» — ранен, крик по Е6 — «мало били тебя!» — ранен, удар металлической бляхой по плечу — убит, удар металлической бляхой по локтю — убит, удар металлической бляхой… Хватит, убит и так, и так и сяк, лбом о косяк, попал впросак — зассал, что это на твоих штанишках, сынишка? Родионов плакал по ночам, а по утрам изводил свою жену и чувствовал вину. Его отец чувствовал вину, были ли у него чувства? Каков отец, таков и сын, от осинки не родятся апельсинки, встань и иди, сын мой, встань и иди, да пропади оно всё пропадом. Что было потом? Сначала морской бой, а потом разговоры о том о сем — ни о чем и обо всём. Ход конем, Троянский Конь и Елена, надо же, какое совпадение: сказал пару-тройку слов невпопад и ад. Рай на земле, ад на земле, сколько тебе? Он спрашивал ее:
— Сколько тебе?
— А сколько дашь? — спрашивала она его.
Всё заканчивалось вопросом: «Дашь?» Ее звали Даша, сестру — Наташа, Даша хотела казаться кем-то не от мира сего, ни вашим, ни нашим, но казаться не значит быть. Казаться-касаться, поначалу она боялась к нему прикасаться, а потом ничего, прикоснулась, отлегло. Помогло? Что могло случиться, чего случиться не могло — вместе так промозгло, вместе так тепло. С Родионовым было промозгло, но Даша хотела казаться кем-то не от мира сего, поэтому и выбрала его. Наивная девочка, ненаивный мужчина — понятно, что, кого и к чему побудило. Так ли понятно, так ли всё было? История повторяется, история начинается: Гумберт-Гумберт… Влюбляясь, мы превращаемся в детей, превратись в ребенка и прозрей, подуй на ушиб, покрасней, что может быть прекрасней, что может быть ужасней любви? Жизнь разъединяет, любовь объединяет, любящий человек готов бросаться на шеи (объятия — панацеи), молчать о своей любви, кричать о своей любви, дышать, задыхаться, отпускать и сражаться, любящий человек — не человек, он — век, он — вечность, беспечность, беспечность плюс вечность — бесконечность, любящий человек — конечность без конечностей, у любящего человека ничего не кончено, но всё начато, всё — начало, всё ново, всё известно, всё — из вестей, вести с полей, поле говорит любящему: «люби!», и он любит, только как себя вести? Веди себя как хочешь, веди себя, веди меня, нет больше меня, есть что-то больше, что-то значительней, чем «ты» и «я». Что такое семья? Семь я, два я, один я — всё и все семья, друзья, груз — не я. Влад не любил Дашу, Даша не любила Влада, Лена не любила Влада, кто мог его полюбить, оценить, простить, а не только прельстить и польстить? Лесть не делает честь, лести не счесть, чести — счесть, каждый поступок зачесть, но не каждый поступок — честь, можно ли что-то вычесть? Очистить, очиститься, очистки былого, ростки благого…
— Бла-бла-бла, — сыновья не слушали наставлений Сеткиной, она была для них мелкой рыбешкой, стучала по столу поварешкой, а что-то дельное, что-то цельное она советовала?
— Ну да, ну да… — сыновья не слушали наставлений Сеткиной, она была для них оградой, преградой, мешающей уплыть в океан, для чего он был им дан — океан? Им был дан океан, а она, окаянная, не океанная, мешала, помехи создавала, почему? Потому что не понимала, такую только понять и простить, принять и любить. Один из ее сыновей, младший, любил солнце. Он смотрел на солнечные лучи своими лучистыми глазами, солнце смотрело на него и думало: «лучик», он грел солнце, солнце грело его — они любили друг друга. Есть мальчики, которые гуляют с девочками — Саша, с мячиками — Дима, есть мальчики, которые гуляют сами по себе, мальчики-коты — Влад, а он, Сеткин сын, был мальчиком с солнцем. Солнце светило, и на него что-то нисходило: мир становился ярче, цвета — насыщеннее, он от этих цветов млел, люди от жары становились пресыщеннее, а он — млел, они называли это «океаническим чувством», а он — солнечным светом. В эти моменты он чувствовал себя кем-то большим, кем-то важным, отважным, он чувствовал себя не кем-то, а всем — муравьем, журавлем, речкой, кочкой, бабочкой — разом всем и сразу, в него будто вселялся высший разум. Он, неразумное десятилетнее существо, думал о чем-то выходящим за пространственно-временные рамки: «вот бы не потерять, когда вырасту». Потеря любимой игрушки — это одно, потеря целого мира — другое, это — потеря целостности, цельности, дара исцеления. Был ли у него дар исцеления? Он понятия не имел, но, когда в этом созерцании с озерцами, увидел, как девочка наступила на жука и закричал «нет!», жука не раздавило. Он посмеялся, посмеялось солнце. Это было или этого не было? Что было, то прошло, солнце зашло, и Сеткин сын превратился в себя прежнего.
Родионов потушил сигарету и поднялся.
— Так, ну че стоим? Давайте, спускаемся, — он махнул рукой, и поначалу никто не двинулся, но после, по одному, они спустились со ступеней. Родионов опустился на колени, пригнулся и протянул руку в щель между досками. Закусил губу, втянул носом воздух и выдохнул, лицо посветлело, посветлело настолько, насколько это было возможным для лица, к которому прилила кровь, не красному даже, а бордовому. В пальцах Родионов держал пуговицу. Через пару часов ей предстояло быть пришитой к ветровке младшего брата мальчика с велосипедом.
Через пару часов первому, пятому и одиннадцатому «А» предстояло вспоминать истории о перекидывании мокрой тряпки на переменах, о черных полосах на паркете и меловой пыли на кончиках волос и жилетках, через пару часов Щербаков должен был забить гол Белому, а Белый — позвонить Вере, через пару часов Родионову предстояло засмотреться на рассвет и понять, что он может любить не только валторну, а Сеткиной — поцеловать своих сыновей и почувствовать, что один из них пахнет медом, а другой — орехами, через пару часов…
(Продолжение следует)
[1] Начало см.: «Нате» №9 2024.

