
Белье не просыхало третий день. В сумерки дождь замирал, но толку было чуть: влага сочилась всюду, бесшумная завоевательница. Все дела, которые я себе напридумывала для оправдания ежедневности, закончились. Стирка и глажка встали на паузу, потому что ни одна простынь, будь она хоть тысячу раз хлопковой, не высохнет в этой невольной оранжерее — уж скорее покроется кружевом мха и тропическими цветами: многоярусными лилиями, похожими на морские звезды, и веточками акаций.
Пристанище моей горы скудело. Предстояло собраться с духом и выехать в город: купить зонт, полотенце, кофе. Атрибуты нормальности, чтобы поверить: жизнь изменилась чуть менее круто, чем это было на самом деле. Своего пика тоска достигала в котле жизни, а именно среди людей. Чем полнее голосами и ресницами был седьмой автобус, тем больнее оказывалось мне смотреть в мир за его окнами. Все эти люди были свидетелями абсолютной, неохватной реальности происходящего, в которой я — очередной и случайный, неопознанный объект со скудным словарным запасом. Мимо проносились знакомые сюжеты: похоронная процессия, колонка с водой, столпотворение у рынка. Почти все мои попутчики крестились, увидев в окне храм, чуть опустив голову — кроткий жесть единения, касание изнанки, взаимоузнавание в безмолвном танце. Эти люди говорили не просто на одном языке, они говорили на общих языках.
Здесь ты почему-то всегда одет по погоде, даже если и рад ошибиться, но вот вписаться также легко в социальный пейзаж — идея, казалось мне, обреченная на провал. В тот день, не полагаясь на точные подсчеты, я бы предположила, что мне предстоит не более чем полтора разговора на смеси моего элементарного грузинского и их почти литературного русского языков. Грузины помнят слова, которые я сама забываю: горбушка, ломтик, ушедшие, привычка. Однако по традиции, которая приближает жизнь к литературе, я ошибалась.
Возле поворота на Gonio turn вошли трое мальчишек, не старше 10–11 лет. Подвижные, бойкие и деловитые, как многие дети их возраста, они заняли кресла с самым лучшим обзором. Жажда жизни: глотка воды, вида из окна, близости единомышленника, если не сказать сообщника — делала их будто бы в десятки раз быстрее и звонче всех окружающих. Они отдышались, переглянулись. У каждого из них на ладонях были повязаны хлопковые платки с пестрым узором. Черный платок на правой кисти и белоснежный, безгрешный, выглаженный — на левой. В моей юности, читай, три тысячи лет назад, похожие платки носили на шее или в волосах. Раздобыть такое сокровище было задачкой со звездочкой для провинциального ребенка. В этом смысле их гордость и трепет перед этими знаками общности и узнавания были мне понятны. Наверное, я даже улыбнулась. Что для них значит этот символ?
Несколько минут я пыталась представить, как заведено в их семьях: кто стирает и гладит эти платки? Ведь они то и дело натыкаются на поручни, кулаки, тесемки целлофана, ягоды шелковицы и приморскую гальку, чтобы пускать блинчики по воде. Неужто просят своих невозмутимых мам?
Мои мысли споткнулись об остановку. Водитель по-грузински объяснялся с пассажирами: стало ясно, что дальше по маршруту он не поедет. Высыпали на асфальт дети, бабушки, вышла и я. Место было смутно знакомым. Перед глазами бетон мешался с глицинией. Речь людей, рассыпающихся в направлении своих домов, затихала. Посреди поразительно длинной, необычайно пыльной улицы оставалась я — с зонтом, полотенцем и пачкой молотого кофе в сумке. Влажный, тяжелый воздух не утаивал будущего дождя. Немного постояв и, полагаю, даже пожав плечами, я направилась в сторону горы. Это удивительный город: плоский в своей основной части, он перетекает в горы Аджарии словно бы по щелчку пальцев.
Ощущение полного разъединения и выпадения из понятных мне общностей и пространств наполняло меня какой-то новой невесомостью, она выбрасывала меня на поверхность любого сообщества. Который месяц я так и ощущала себя — где-то на периферии, на опушке леса, одним глазком заглядывавшей в квартиру, где чужое семейство будто бы спорит, какой выбрать гарнир к ужину. Хотелось ехидничать: открыть курсы по разрыву всех связей. «Как в один день перестать быть дочерью, коллегой, всеуважаемым и всеучтенным гражданином».
В своем сомнамбулическом паломничестве в сторону дома (дома — ну неужели я назвала это домом?) я размышляла о том, сколькими вещами заполонен мир. Всем в нем находится место, почти все в нем бывают услышаны. В мире есть американские утренние телешоу, где заблудшие души, бывшие бродяги и алкоголики, рассказывают, как их спасла приходская церковь. Их объединяет чистосердечное доверие беде и то, что оттуда их вывело, если оно их, конечно, вывело. Или, быть может, еще ведет. Есть в нем фальсификация научных данных — секрет, который исследователи таят за пазухой с разной степенью мук совести, так долго, как позволят им обстоятельства. Точно знаю, что есть в нем и языки, пытающиеся растаять во времени и камнях — в каменном времени и временных камнях, но те, кто всё еще на них говорит, всегда рады обратиться друг к другу. И, быть может, где-то даже прячутся тени кельтских мифов, ободряюще кивающие этим певцам уходящего логоса. Точно сейчас в дороге пешие путники, движимые по направлению начертанных на земле ракушек — пилигримы Эль Камино де Сантьяго. Их объединяют ритм шагов, пейзаж, общая банка сардин на ужин и рассвет в Лиможе. В разгаре дворовые состязания по нардам, объединяющие соседей над персидской загадкой. По миру рассыпаны подростки, впервые прочитавшие “The Lord of the Rings” и нависшие над тетрадями и клавиатурами в попытках написать продолжение этой истории. Этой и многих-многих других. Прямо сейчас где-то идут занятия по правильному дыханию в родах, где будущие мамы всех возрастов смотрят друг на друга с неловкостью, сомнением и нежной попыткой предугадать теплоту нового, иного порядка. Есть свадебные застолья, объединившие за общим столом, накрытым в умеренной степени безвкусной скатертью, малознакомых людей. Эти люди разделят воспоминания, фотографии, пару шуток и даже, возможно, похмелье. Все эти случайные и неслучайные группы людей, которые умеют общаться словом и жестом.
Людей всё время сталкивает к этим буйкам и точкам притяжения, они собираются в виноградные гроздья, перекладины ручных счетов, крепкие узлы, атомные структуры, гулкие аквариумы, спортивные команды, этносы. Идентичности покрывают их новой кожей, указуя в сторону того, с кем можно разделить и слово, и опыт. Никто не один, никто из людей не остров, как говорил нам Джон Донн, и мы, обученные уроку, не спрашиваем, по ком же звонит колокол. Как странно в этом мире общностей быть совсем уж тонкой единицей.
Я замерла где-то на середине пути. Дождь распоясался, капли стали тяжелыми. Намокла спина, поднялся ветер. Мимо проносились автомобили, велосипеды. Редкие пешеходы забежали под редкие навесы. Угроза грозы ощущалась всеми чувствами. Больше всего хотелось расплакаться, словно дитя, потерявшееся в соседнем дворе. «Но, как известно, именно в минуту отчаянья и начинает дуть попутный ветер» — в заборе, покрытом трещинами, пылью, влагой, девичьим виноградом, приоткрылась калитка. В ней стоял один из юных моих попутчиков, его я узнала по черному платку на правой кисти. Мне открылась картина со сложной перспективой.
В сером бетонном заборе, в проеме калитки, стоял смуглый молчаливый ребенок, освещенный электрическим светом за его спиной — то был почти белый шар дворового фонаря над собачьей будкой в сочетании со светом лампы, струящимся из окна на листья алоэ и папоротника. Завершал перспективу неизбежный и пронзительный теплый свет в проеме двери. Дверь в дом, вторя ритму калитки, была распахнута. В арке из дверей и света стояла женщина средних лет, в темном летнем платье, босая. Волосы ее были собраны на затылке, в левой руке ее была миска с овощами, покрытыми каплями — то ли дождя, то ли проточной воды. Она кивнула мальчику, он сказал мне неразборчиво: «моди, моди» и показал рукой на скамейку, спрятанную под козырьком. Я смотрела в лицо этой женщины, пытаясь понять сцену. Они хотят спрятать меня от дождя, приютить? Женщина стояла почти напротив меня. Немногим меня старше, она отличалась той цельностью и монолитностью, которая часто наполняет хозяйку дома и мать нескольких детей. Никуда не торопясь, чуть склонив голову, она по-русски сказала:
— Заходи, еще час будет ураган точно.
Я ощутила себя одновременно и ее сверстницей, разделенной разностью опыта, и детской фигурой, почти одноклассницей ее, надо полагать, сына. В моем привычном порядке вещей не было правил, по которым стало бы ясно, как повести себя в этой ситуации? Вежливо отказаться, попутно обидев чужую заботу, и продолжить путь, покоряя стихию в попытках добраться до своего приюта? Согласиться на приглашение абсолютно чужих людей в чужой стране? Пока я раздумывала со свойственной мне медлительностью, я заметила, как ребенок в ожидании моего шага держит калитку левой рукой и крутит образовавшееся кольцо из намокающего платка на правой. Мне стало жаль его очевидную драгоценность. Кивнув, я вошла во двор. Покашляв после долгого молчания, я сказала, словно бы им обоим, сделав еще один шаг:
— Гамарджоба. Мадлоба, диди мадлоба. Надеюсь, я не буду вас долго мучать.
Мальчик шустро затворил калитку, подбежал к скамейке, дернул какой-то шнурок — и пространство под козырьком осветилось. Это было подобие террасы под широким балконом, маленький приют для редкого безделия в частном доме — скамейка, спрятанное в тени сиреневое кресло, деревянный столик. Мальчик указал мне на кресло, а сам сел на скамейку, поджав одну ногу, и поставил подбородок на колено. Через пару минут вышла его мать. Ей было немногим больше тридцати, ее лицо было вневременно красивым: географические скулы, острый подбородок, спокойный взгляд. Монолитность, ясность олимпийского божества, уверенность шага окружали ее ареолом ненавязчивой заботы. Она несла поднос серебряного цвета — такие почему-то есть во многих грузинских семьях. На нем стояли турка с опадающей шапкой кофейного вулкана, две маленькие синие кружечки, плошка с зелеными сливами ткемали, чашка клубники и несколько домашних лепешек мчади в блюдце. Сначала она молча переставила свое изящное угощение на столик, затем разлила кофе и только после этого опустилась на скамейку и потрепала сына по голове.
— Ика увидел тебя через окно. Сказал, вместе ехали на автобусе. Этот водитель, Эзнари, часто не доезжает до конца улицы. Иракли почти не говорит по-русски, но много понимает. Я Мзевинар. Не стесняйся, пей кофе. Наверное, сильно намокла. Не бойся, садись спокойно. Поешь, попей. Ты откуда?
— Оля, — негромко сказала я, прокашлялась и продолжила, — меня зовут Оля. Я из Москвы, но сейчас живу там, — махнула в сторону горы. — Спасибо большое, вы очень добры, мне так неловко.
Мзевинар молча улыбнулась сдержанной, скромной улыбкой. Ее плечи оставались ровными и симметричными, пока она подносила ко рту свой кофе. Кофе, сладкий по турецкой традиции, в Аджарии не редкость — щедро изжаренный, сваренный с доброй ложкой сахара.
— Посиди тут, не бойся. Разве кто другой бы так не сделал? К тому же Иракли сказал, что уже ездил с тобой на автобусе. Даже уступала место Кетеван, говорит, на прошлой неделе. Ну просто всё видит, всё замечает, — ее голос был полон и любви, и той хитрой строгости, которая всегда таится у матери для ее первенца. — Я русский хорошо знаю. У мамы была подруга, Люся, из Гомеля, она каждое лето к нам ездила с дочками. Ты ешь, ешь и кофе допивай, пока не остыло. Сиди, сколько нужно, тут сухо. Через час затихнет. Ика, давай, иди-ка к бабушке.
Из вежливости они заговорила с сыном по-русски, чтобы не смущать меня сложным языком. Рассказала, что живет в этом доме уже 13 лет, столько же, сколько она замужем. Мужа ее зовут Гио — Гиорги, он сейчас в навигации. Есть у них и дочь Тамуна, ей 2, она уже спит. Будка — место для пса, который прибился с улицы, назвали Патроном, просто настоящий проглот. Бабушка Иракли, мама Мзевинар, Зейнаб — болеет и почти не выходит из комнаты. Все лилии и агавы во дворе посадила сама Мзевинар. В огороде растут еще и мушмула, и черешня, и мандариновое дерево. Мзевинар ровным голосом рассказывала о вещах, которые были ей несравненно дороги — о людях, о которых она заботится каждый день. О цветах и деревьях, которые она пропалывает и подвязывает. О страхах в шторм, когда Гио в море. Еще о том, что ничего страшного нет в том, что я еще не знаю грузинского — мол, обязательно выучу. Один раз она даже смеется, когда смешно произносит слово хохотать: «я так хоховала». Эта женщина в свете нескольких электрических ламп, готовая впустить незнакомку на свой порог посреди грозы, видится мне и подругой, и сестрой, и даже немного матерью. Слова льются из нее легко, речь ее не прерывается неловким чувством, с которым мы часто боимся выдать секрет или кого-то обидеть. Она спрашивает меня о детях, о доме, о работе. Я рассказываю как могу и умею о страхах, неудачах, ошибках и надеждах.
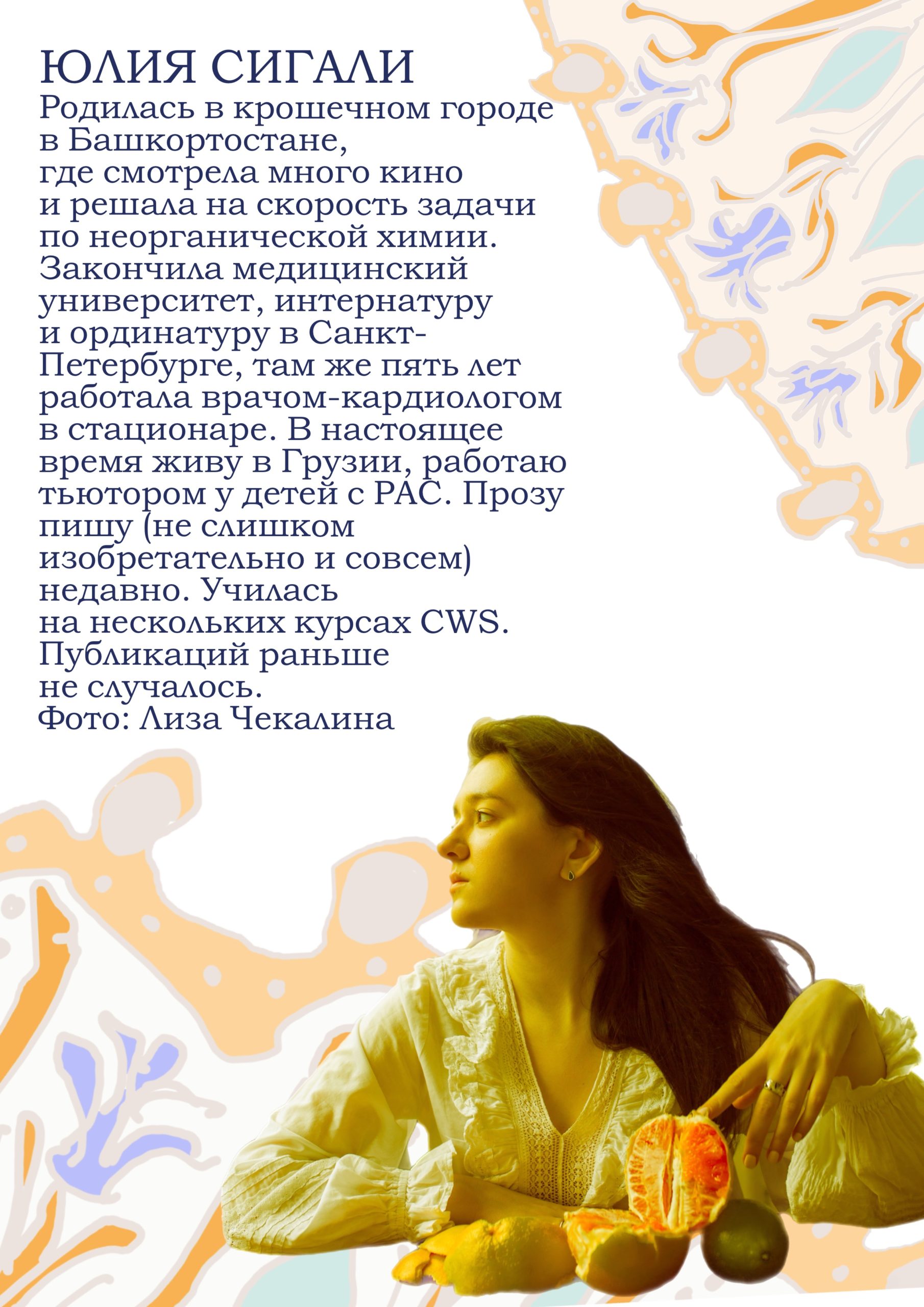
— Всё будет хорошо, — говорит Мзевинар, — все тебе поможем. Не бойся. Всё лето впереди. Жизнь тоже еще впереди.
Я словно бы начинаю таять, как если бы вернулась домой после долгого хождения по делам и мукам в промозглую погоду. Причудливые кусты агавы, словно древние существа, дремлют в свете ламп и фонаря. Патрон спит, из будки даже не слышно его дыхание. Дождь стихает. Я улыбаюсь, но немного в сторону, чтобы никого не смутить. Потому что ни один человек, будь он хоть тысячу раз поломанный, не останется без живого слова в этом краю. В конце концов, те, с кем мы говорим об одном — или на одном языке — могут меняться. Их можно выбрать, с ними можно попрощаться. Никогда не знаешь до конца, кто поймет тебя и где та гавань, в которой разговор будет простым.
Я ощутила себя свежей, белой простыней, почти просохшей после трехсуточной непогоды. — Мзевинар, — спрашиваю я, — а кто стирает и гладит эти платочки, ну, для Иракли, которые он носит на руках? Получается, ты?
28.01.2024
