Татьяна Дмитриевна Венедиктова — о преподавании на факультете, филологии в аспекте коммуникации, литературных премиях, рецепции текста, авторском стиле, свободе и антисвободе.

Татьяна Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, про филфак Вашего обучения. Каким он был?
Филфак для всех разный, особенно с учётом селективности воспоминаний. Мне из сегодняшнего дня он кажется очень домашним. У нас был очень хороший учитель литературы, в итоге на филологический поступило не то пять, не то шесть человек из выпуска. Я училась в группе с одноклассницей, ещё кто-то — в соседней группе. Это было как продолжение школы, но происходило, конечно, и разительное, ошеломляющее расширение кругозора. Меня интересовала по-настоящему только литература, лингвистикой я не увлекалась совсем, но отлично помню, как это было увлекательно — корпеть в читалке (одна из ушедших реалий?) над латинскими падежами или германскими глаголами — по книжкам, страницы которых буквально распадались, замусоленные пальцами многих поколений студентов. Ты сразу чувствовала себя частью избранного, трудолюбивого, преданного слову сообщества. Или помню, как Сергей Сергеевич Аверинцев читал лекцию, а Клара Петровна Полонская (которая на первом курсе читала нам античку) материнским жестом набрасывала ему на плечи собственную шаль, поскольку в аудитории сквозило. Это было немножко смешно, трогательно и хорошо. Потому и помнится.
Многое ли изменилось с того времени? Чем филфак Вашей учебы отличается от филфака Вашего преподавания сегодня?
Опять же, каждый воспринимает окружающую среду с той стороны и в тех аспектах, которые ему наиболее интересны. Мне всего интереснее личный контакт с молодыми людьми, которые приходят на филфак примерно так же, как когда-то я: с любопытством, не очень явно направленным. Вас интересует жизнь слова, но это же, по сути, вся жизнь. Получать что-то от таких любопытствующих и чем-то с ними делиться, обмениваться интеллектуальной энергией — лучшая сторона преподавания. Трансляция знаний — сторона рутинная, тут тебя легко заменят книжки или Гугл. Для преподавателя самое вдохновляющее, но одновременно и самое трудное, выматывающее — это приспособление собственного, уже сложившегося сознания к свежести и остроте чужих мозгов. Они ищут себе приложения, цели, вдохновляющего вопроса, и когда ты им вовремя что-то подкинешь, хватают подсказку, как рыба наживку, и производят, пусть не очень умело, такое, что тебе в голову бы не пришло. Я думаю, университет в принципе ради этого существует, а все остальные вещи — листаем ли мы книжки или экраны, ориентируемся на ту теоретическую конъюнктуру или другую — сравнительно не важны.
Есть ли отличия между тем студентом, каким были Вы (и теми студентами, которые Вас окружали), и студентами сегодня?
Какие-то тонкие вещи меняются — на уровне организации знания, устройства внимания. На них реагируешь интуитивно, как-то к ним подстраиваясь, и иногда удивляешься, когда сталкиваешься в лоб.
Например, могу поделиться таким фактиком, эпизодом, над которым я потом долго думала. Как-то ко мне пришёл человек, недоокончивший наш факультет. За полтора десятка лет он создал какой-то свой бизнес, был в нём вполне состоятелен, но ему пришла то ли фантазия, то ли необходимость дополучить высшее образование. Я как раз принимала зарубежку, а он попросил: «Можно я посижу у Вас на экзамене, послушаю, как-то войду в курс?» Я говорю: «Сидите, конечно». Потом спрашиваю: «Ну как?» И он мне говорит: «Всё так изменилось! Мы, когда отвечали, начинали издалека, от предисловия долго шли к главному, а эти прям с середины и начинают». Я сначала решила, что ему померещилось, а потом подумала: возможно, мы сами не замечаем изменений, пребывая «в потоке». Действительно ведь, возникла и проникла даже и в академическую среду привычка укладывать речь в короткий формат. Описывать явления не в генетической логике (в духе библейского — Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова), а ориентируясь на драматический «пунктум». Сам по себе этот стилистический симптом говорит о сдвигах в устройстве нашей мысли, хотя не знаю, хорошо это или плохо.
Именно по этой причине меня занимает литература как коммуникация и коммуникация в ее эстетико-психологических аспектах. Общение со студентами — извечно вдохновляющий исследовательский ресурс.
Невозможно избежать этого вопроса, может быть, Вы уже как-то комментировали это, но все-таки: как и почему создавалась Ваша кафедра? Насколько я могу судить, это нечастое явление.
Нет, это совсем не частое явление. И она очень трудно создавалась в плане бюрократическо-административном, я бесконечно благодарна тогдашнему декану Марине Леонтьевне Ремнёвой, которая всё это «продавила». Несколько странное название — многим же непонятно, что такое «общая теория словесности» — предложил тогда Виктор Антонович Садовничий, потому что слово «дискурс» смущало иностранной непроницаемостью. В конце концов мы смирились с этой заменой: важно не название, а вектор работы, и, в конце концов, что такое дискурс, как не словесность-в-действии-и-в-контексте? Взаимообусловленность речевых, когнитивных и социальных процессов — вот то, к чему мы выходим разными тропинками: кто через лингвокультурологию и психолингвистику, кто через медиологию, кто через прагматику или теорию перевода. Если посмотреть на тематику спецкурсов, не скажешь, что мы учим чему-то неслыханному. Литература и кино, и фотография, иные виды изобразительности, — или литература и музыка, песня как особый режим существования поэтического текста, — или популярные жанры (та же фантастика), «кочующие» и трансформирующиеся в глобальном медийном пространстве… — сегодня это многим, пожалуй, интересно. Но даже при наличии интереса невозможно в одиночку культивировать новое для науки проблемное поле. Чтобы полноценно освоить адекватный ему набор методов и инструментов, нужно последовательное, коллективное усилие, не сразу приносящее плоды, — на него и нацелена кафедра.
За полтора десятилетия состав преподавателей менялся, в том числе потому, что люди уходили: становились кураторами галерей и музеев, как Екатерина Иноземцева, или сценаристами, как Юлия Идлис. Я думаю, это здорóво (живая теория — не противоположность, а родня практике), тем более что связи не обрываются, а на смену приходят новые люди. В сегодняшнем составе кафедры мне нравится стихийно сложившийся баланс опыта и (относительной) молодости, научной состоятельности и готовности к публичной инициативе, вкус к сотрудничеству и охота к проектной работе.
Ещё раз: кафедра возникла для того, чтобы разрабатывать филологическую тематику в аспекте коммуникации — без «рокового» деления на лингвистику и литературоведение, а наоборот, обращая их друг к другу на почве общего интереса к дискурсу. И я не жалею, что передвинулась сюда с «зарубежки», хотя та кафедра остаётся мне родной и с материалом зарубежной литературы я продолжаю, конечно, работать. Но как много новых стимулов возникает в этой работе — и возможностей, «зудящих» в голове! Поэтому ещё раз спасибо всем, кто участвовал и участвует в начинании под именем «теория дискурса и коммуникации», сочувствует ему или интересуется его перспективами.
Литература как коммуникация, литература как опыт — это тот подход, в рамках которого Вы работаете. Что нам этот путь открывает и чем нам приходится жертвовать, встав на него?
Я думаю, этот путь открывает нам филологию как полноценно гуманитарную, антропологически ориентированную науку. Филологию, которая ставит не только узкоспециальные, но и широкие вопросы, подразумевающие междисциплинарный диалог. Для чего, по-настоящему, человек придумал такую причудливую вещь, как литература? Какую работу выполняет в нашей жизни метафорический образ, или рассказ, или подражательный вымысел? Всё это исключительно интересно.
А жертвовать? Ну, наверное, приходится жертвовать комфортом заведомой авторитетности знания, то есть именно тем, чем сильна «нормальная», по Томасу Куну, наука. Примером «продуктивного дискомфорта» может служить наша кафедра — странноватая, в том смысле, что у «нормальной» кафедры есть предметное поле, в пределах которого ставятся и решаются задачи, а у нас определённого предмета как будто нет, а есть только зона и направление поиска. Контактная среда, ценная тем, что в ней генерируются связи, инсайты и «долгоиграющие» исследовательские сюжеты-проекты.
Как Вы считаете, наука на русском языке становится провинциальной?
Она может стать провинциальной, только если сама захочет оглохнуть и онеметь, окуклиться и оборонительно замкнуться. Иногда, что говорить, такое искушение возникает. Слишком высока динамика международных научно-информационных обменов, слишком подчинена рыночно-экономическому принципу «творческого разрушения». Не успеешь оглянуться — вчерашняя новация забыта, мода сменилась, и все ринулись под новый флаг, у всех на слуху и языке новый термин. Всё это — поверхностная суета, далёкая от «гамбургского счёта», а он в науке всё равно есть, никуда не делся.
И дело не сводится к выбору: хранить верность классике или соблазняться новой модой, быть законодателем моды или её догонять. Важно быть в курсе общего разговора, различать его поверхностные и глубинные течения, вариативность представленных в нём позиций. Важно сохранять в себе любопытство и готовность к обновлению компетенций, уже наработанных. Важно владеть языком международного общения, по нынешним временам английским (хотя лет через двадцать, кто знает, может быть, китайский окажется предпочтительнее). Важно уметь переводить мысль не только с языка на язык, но и из одной системы понятий в другую — быть изобретательным, а не калькировать лениво чужие изобретения. Но русская традиция — это и есть великолепно гибкие, изобретательные умы, Михал Михалычи Бахтины (условно), прекрасно чувствовавшие фактуру, диалогический потенциал чужой и собственной мысли. Люди, умевшие создавать новое «на чистом энтузиазме» и в самых неблагоприятных обстоятельствах. Чувствовал ли себя провинциалом Роман Якобсон, когда начинал работать в Московском университете? Конечно же, не больше, чем потом в Праге, потом в Копенгагене, потом в Нью-Йорке или Бостоне.
Вы буквально подвели к вопросу, о котором я раздумывал, задавать его или нет. Профессор М.М. Голубков сравнительно недавно в интервью сказал следующую вещь: «Современное литературоведение — это множество самых разных школ, дистанция между которыми определяется их дискурсивным арсеналом и представлениями о задачах литературоведения. Одна из этих школ мне принципиально чужда, поэтому с нее и начну: ведь отрицать всегда легче, чем утверждать. Это даже не столько школа, сколько среда, сложившаяся вокруг журнала “НЛО” и одноименного издательства». Затем он говорит, что это «принципиально иная, чем в советское время, гуманитарная среда с новым языком и кругом идей». «Идей, — добавляет он, — преимущественно антирусских, склонных к смешению русского и советского. Для того, чтобы отличать своих от чужих, и был создан тот самый дискурсивный арсенал. <…> Смею надеяться, что тот круг литературоведческих идей, который существует на филологическом факультете МГУ, в частности, на нашей кафедре, представляет определенную оппозицию НЛО»[1]. Для меня это было удивительно. Как Вы относитесь к такой позиции?
Что ж, такая позиция имеет право на существование. В науке, действительно, много направлений и сред, и никто из нас не всеяден. Каждый выбирает те сообщества, с которыми интереснее, продуктивнее общаться, — и развивается в определённом направлении. Лично я с НЛО как раз в очень хороших отношениях. У них свой круг приоритетов и интересов, включая и свои, что называется, заморочки, но это люди, любопытные к новому. Вновь возникающими «языками», направлениями и принципами литературного анализа они занимаются в широком спектре, профессионально и творчески. Такой мониторинг — хорошее, полезное дело. Ничего антирусского в этой работе нет, и ученые филологического факультета МГУ, от аспиранта до профессора, в ней продуктивно участвуют. Я думаю, что высказывание Михаила Михайловича — полемический перегиб, так сказать, издержка жанра. Вообще мне близка мысль Фуко, считавшего, что полемика — паразитическая форма научного разговора, скорее препятствие, чем помощь в поиске истины. Ведь в чем, как правило, видит задачу полемист? Отстоять позицию, сохранить верность себе. Поэтому оппонент воспринимается не как партнёр, а как противник, носитель пагубных заблуждений.
Михаил Михайлович, кстати, не раз выступал с очень здравой и хорошей идеей — создать (или воссоздать) на факультете методологический семинар. Попытки такие предпринимались, но систематического характера, увы, не приобрели. Вопрос: почему дело идёт так трудно? Думаю, от общей нашей непривычки к кооперативному разноречию. Когда (и если) разногласий нет — разговор выдыхается в отсутствие внутреннего конфликта. Но и разговор с «чужим» не клеится, не углубляется до принципиальных вещей, а сводится к мелким, формальным придиркам. Между тем, импульс развития может исходить даже из источника идейно чуждого: чужесть нас раздражает, но, когда вдумываешься в природу и причины раздражения, начинаешь наново осмыслять собственную позицию. «Метод», напомню, — это «путь», а путь предполагает открытость и подвижность. Главное — не увязнуть в окопной, оборонительной войне полемики.
Вы какое-то время работали на Западе?
Нет. У меня было только несколько научных стажировок, но волей обстоятельств — в очень хороших школах, в Америке и в Германии. В эти коротенькие промежутки времени я могла изнутри, вблизи и (благодаря дружеским отношениям с тамошними коллегами) очень прицельно наблюдать работу сильнейших западных профессионалов. В Йеле, университете Дьюка, Чикагском университете, Свободном университете Берлина. Эта среда привлекает, вдохновляет, хотя и устрашает отчасти своей требовательностью к «инсайдерам»: каждый, от студента до профессора, просто обязан чуть не ежечасно предъявлять что-то новое. Но так не везде, разумеется.
Как Вам кажется, где учёному работается свободнее: на Западе или у нас?
А что значит «свободнее»? У свободы много измерений. Например, для научной работы нужно время — а в университете на вас висит прекрасная, но и поглощающая время рутина преподавания. Так и у нас, и на Западе. Вчерашний аспирант, принятый на работу, сразу включается в потогонную систему и крутится, как белка в колесе, пока и если не удаётся выскочить в избранную когорту преподавателей с постоянным контрактом (tenure). Но к тому времени человек, бывает, уже устал, «выгорел». О свободе можно думать двояко: имея в виду временные и прочие ограничения или имея в виду наличие стимулов/возможностей. Но и тут прямое сравнение затруднительно.
Я думаю, для нас Московский университет — ровно то, что мы сами из него делаем. Ведь как развивается наука? В чьей-то голове появляется идея, собирается круг заинтересованных в ней людей, возникает система обменов в виде конференций, коллоквиумов, интернет-сессий, очных и заочных посиделок. Гуманитариям не нужно дорогостоящее оборудование для экспериментов, зато «подключённость» к системе профессиональных обменов на желаемом уровне — бесценна. Это наиболее эффективный путь доступа к свободе мысли.
Знаете, есть такой жанр научной литературы: сборник статей в развитие «пионерской» гипотезы или концептуальной возможности. Недавно я рецензировала (для того же НЛО, кстати) один такой сборник на тему, которая многих сегодня интересует: литература и аффект. Очень интересное новое поле трансдисциплинарного сотрудничества, в нём работают когнитивисты, психологи, философы, литературоведы, лингвисты. В сборнике участвовали специалисты из университетов Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Шанхая и еще бог весть откуда, а составитель представлял университет Акадии — вы знаете такой? Он расположен в городке под названием Вулфвилл, в канадской глубинке, на бывшей индейской территории, поди найди его на карте. Научный мир сегодня устроен так, что единого центра нет — центров много, они подвижны. В любой области центр там, где талантливый человек собирает вокруг себя виртуальную группу людей не менее способных и «оборудованных» профессиональными контактами. Так происходит прирастание мысли, порой небольшое, порой очень ощутимое. Вот на этот уровень международного взаимодействия русским учёным — вам, которые пока ещё студенты и аспиранты, — очень важно выйти.
Всё-таки для меня свобода — это в первую очередь свобода идеологическая. То есть то, что сейчас происходит в Высшей школе экономики, насколько я могу судить, антисвобода. Мой вопрос был, наверное, с этой позиции.
Свобода идей и убеждений, как и вообще свобода, — не абсолютное состояние. Как говорил Фуко, это деятельность, конкретная практика. Череда внутренних решений и публичных жестов, альянсов и принимаемых на себя обязательств, выборов и уступок, высказываний и умолчаний, — вот что такое свобода.
Разумеется, никого никогда не радует принуждение — в виде, например, административного давления. Когда оно наносит ущерб исследовательскому поиску, продуктивному обмену мнениями — совсем печально, и я от души сочувствую коллегам (в той же Вышке), оказавшимися потерпевшими в подобной ситуации. Потерпевшими, но продолжающими работать, обосновывать и отстаивать свои позиции, что, по-настоящему, всего важнее. Говоря о свободе и антисвободе, следует иметь в виду не мелодраму в чёрно-белых тонах, а социальную драму, богатую оттенками, с «извилистым» сюжетом. Длящееся действие с повседневным участием каждого.
Сегодня очень меняются форматы чтения, причём это происходит резко и быстро. Какие Вы видите различия между традиционным бумажным чтением, электронной и аудиокнигой? Это же не одно и то же чтение, правильно?
Конечно. И это увлекает сегодня многих: ведь, по сути, реструктурируется эстетический опыт человека, опыт отношения к тексту. Читатель, как вы справедливо говорите, перестаёт быть только читателем: становится зрителем, слушателем и не только (сюда же, как свидетельствуют когнитивисты, присоединяются хаптические, кинестетические и иные ощущения). Преобразуется «пользовательский интерфейс» — может ли на это не реагировать наука о литературе? Думаю, не может. Думаю, она постепенно и неизбежно становится наукой о человеке, по-разному «использующем» текст в процессе (и с целью) передачи индивидуального опыта. Заметьте: не знаний или информации, а именно того, что доступно каждому лишь изнутри собственного тела и сознания. Что транслируется не посредством языкового кода, а посредством инференции — иносказания, косвенного указания, подсказки, догадки, реализуемых творчески в речевой практике. Эта базовая идея лингвистической и литературной прагматики мне представляется очень важной. Из неё происходит масса интересных частных возможностей, в том числе и в связи с изменениями литературного чтения в электронный век.
Ну вот, например, часто звучат сетования: чтение становится более рассеянным и поверхностным. Возможно. А что лучше — поверхность или глубина? Ответ как будто ясен: конечно, глубина. Но не факт, необязательно. Контакт с поверхностью может быть не менее богатым, чем углубление во внутренние слои структуры. У меня был, знаете, такой момент в педагогической практике. Студентке на спецкурсе по американской литературе я стала пенять: «Как же вы не дочитали “Моби Дика”?» Та оправдывается: книжки, мол, нету — обычная студенческая сказка. Я говорю: «Но остальное же вы прочитали! Как?» Она (растерянно): «Я распечатываю по несколько глав, дома что-нибудь делаю и заодно читаю…». Я сначала хотела застучать кулаком и затопотать ногами: что за чтение такое? — позор для филолога! Но… потом задумалась. «Моби Дик», как вы помните, весь состоит из маленьких главок, сюжетность сосредоточена в начале и в конце романа, а вся объёмная середина напоминает рассматривание кита: хоть от головы к хвосту, хоть от хвоста к голове. Написана книга в 1851 году, когда в помине не было ничего подобного электронной сети (по-моему, даже телеграфный кабель под Атлантикой ещё не был проложен). Но сетевой принцип, на который отзывалось человеческое воображение, уже присутствовал, витал в воображении. И странная практика чтения — не то чтобы незаконна: в каком-то смысле она отвечала авторскому замыслу.
Бывает так, что случайно услышанная фраза заставляет над ней думать, возвращаться к ней снова и снова. Дело было в университете Чикаго. Это сильный исследовательский университет, достаточно богатый, чтобы обеспечить постоянный поток гостевых лекций в исполнении академических «звёзд», тем самым — непрекращающуюся дискуссию на передовом рубеже науки (по-американски — cutting edge). Я запомнила начало одной такой лекции — увы, без имени лектора (помню только, что он создавал концепцию для программы медийных исследований в Гарварде, а потом такой же в Лондонской школе экономики). Он задал риторический вопрос: «В чём состоит основной вопрос (issue) гуманитарной науки?» И сам на него уверенно ответил: «It is the issue of human change». Иначе говоря: основной вопрос касается изменчивости, исторической изменяемости, потенциала перемен, который живёт в человеке и реализуется человеком. Меня это поразило: мы ведь больше, привычнее, охотнее говорим о сохранении культурного наследия. И это верно. Но сохранять или охранять можно не иначе, как в контексте хорошо осознаваемых перемен. Просто складированное добро, как бы изъятое из потока времени, пропадёт при самых лучших сторожах. Его вовлечённость в поток перемен предполагает трансформации, возможный риск потерь, но также возможность новых продолжений. В них — жизнь культуры.
Я этот вопрос задал, потому что в последнее время слушаю очень много аудиокниг: вроде бы мне понравилось, но некоторые мои друзья говорят, что это суррогат, что так нельзя делать. А я всегда отвечаю, что это не хуже и не лучше, а просто по-другому. Мне кажется, это вытекает из того, что Вы говорили.
Обсуждения того, что можно, а что нельзя, возникали в истории много раз. Когда появился кодекс (книга), знатоки ворчали: «Свиток — да, а это что за баловство?» И так далее. При всех сколько-нибудь радикальных трансформациях в культуре элита (по крайней мере, её часть) оказывалась на стороне охраняемого старого. Может быть, так и надо, я не знаю. Может быть, это такой здоровый консерватизм: хранители культуры держатся за свои свитки до последнего, но… всё равно понемножку перестраиваются. Ничто не вечно, но и ничто не идёт прахом: культура живёт и меняется.
Вы были в жюри премии «Нос». Скажите, пожалуйста, зачем сегодня нужен институт литературных премий? Это сводится только к некоторым коммерческим функциям и продвижению или всё-таки нет?
Институт литературных премий относительно молод, он появился лишь в XIX веке и, можно сказать, «от рождения» коммерциализирован. Я не могу сказать, что я себя очень ловко чувствовала в составе «выборщиков», именно потому, что сама задача казалась странной: из трёхсот книг выбрать двадцать, потом из двадцати — шесть, потом из шести — одну. А ведь книги все разные, и невозможно их ни под одну гребёнку причесать, ни по единому критерию сравнить. Словом, игра в премии и вокруг премий не имеет, на мой взгляд, большого содержательного смысла. Но если кто-то из авторов получит финансовую поддержку — чем плохо? И обществу есть прибыток в том смысле, что всё-таки выбираются неплохие книги, и пусть о них лишний раз услышат имеющие слух.
Но вот что я позитивного из этого опыта для себя извлекла. Когда читаешь триста книг подряд, ты их, конечно, не читаешь. По первым нескольким страницам, иногда по одному абзацу, чувствуешь стиль: вот это — «вкусный» язык, в нём осязаемо чьё-то присутствие, а вот это — жвачка, совершенно ничья, пусть и с именем на обложке. Стиль как способ поведения в речи, как личный голос, реализованный в письменном слове, — это абсолютный критерий.
Когда мы с Вами на курсе разбирали статью Карло Гинзбурга об уликовой парадигме, Вы говорили, что из неё в будущем может многое вырасти. Как Вы думаете, если смотреть из сегодняшнего дня, за чем будущее в литературоведении?
А знаем ли мы, за чем будущее — в литературе? Нет, конечно. Но, отвечая на ваш вопрос, Дима, я бы предположила: будущее НЕ за «чистым» литературоведением. Или так: не думаю, что у «чистого» литературоведения есть будущее. Наука о литературе не может игнорировать изменений, актуально происходящих с её предметом, как не может и уклониться от вызовов со стороны социальных и когнитивных наук. Рабочие альянсы с ними небесконлификтны и небезразличны для состава нашей дисциплины, в том смысле, что они исключают её «чистоту», внутреннюю успокоенность.
Будущее — за изучением текстов как сложных практик, в которых фаза производства и фаза восприятия трудноразличимы: обе предполагают творческое участие субъекта. Нужна гибкость, чтобы адаптироваться к резко возросшему разнообразию контекстов словесной жизни, чтобы умело переходить границы (границы ведь всегда пугают: высунешься со своей территории, а за её пределом ты уже не хозяин — всё чуть-чуть или очень по-другому устроено). Литературоведение, на мой взгляд, имеет будущее как наука внутренне подвижная, путешествующая, широко заимствующая и в то же время перед собой ответственная.
Очень близкие мне рассуждения, спасибо.
БЛИЦ
Назовите, пожалуйста, тексты или авторов, которые остаются нами, студентами, незамеченными.
Если нужен короткий и точечный ответ, то я переживаю, например, за Джейн Остин. Ни в какой-то курс она не попадает, хотя её романы читают — а также смотрят и слушают — все.
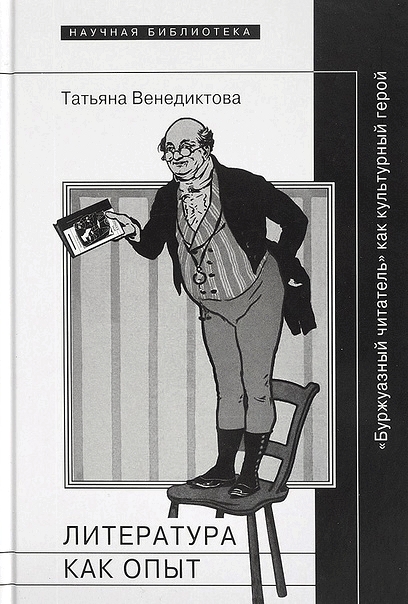
Чем Вас привлекла фигура буржуа?
Может быть, тем, что на буржуа долго — не только у нас, но и на Западе тоже — вешали обвинительных собак. Всегда ведь есть задор обнаружить ценность там, где присутствие её не предполагается.
На первом курсе у нас были, как и у вас, практические занятия по теории литературы, и под конец нужно было выполнить анализ рассказа. Я решила писать по Зощенко, который тогда ещё не был важной фигурой, какой стал сегодня, а был просто смешным, популярным Зощенко. Наш преподаватель — Георгий Константинович Косиков — ещё удивился: «Взяли бы лучше Чехова». Но у меня был мотив: доказать — самой себе для начала — что Зощенко интересен не менее, чем Чехов, то есть что интересное «спрятано» не в предмете, а в способе внимания к нему.
Как ни скучен, ни прозаичен, ни ограничен буржуа, на плечах своих он вынес целую эпоху. В России буржуазная эпоха не была толком прожита: ещё раньше, чем она всерьёз наступила, родилась мечта о её конце и о лучшем будущем, которое возникнет сразу после. Вот мне и было интересно понять: что же у них там, на Западе, было, чего у нас не случилось? Обратным, попятным ходом мысли хотелось оправдать «буржуя», не впадая, в то же время, в апологию. И правда: в нём обнаружилось немало ценных качеств, наряду с культурными изъянами.
Есть ли у Вас любимый город?
Москва. Из иностранных городов — Амстердам и Чикаго. Из наших городов мне понравился город Вологда, где была недавно. Хотя город ведь не воспринимается отдельно от встреч, в нём случившихся.
Неочевидно. А есть ли у Вас любимый музей?
Я лучше скажу про музей мечты: как раз в Амстердаме есть Rijksmuseum. Там собраны голландцы XVI–XVII веков. Помню, как выходила из него с удивительным чувством: будь у меня не четыре часа, а дня так четыре и проживи я эти дни подряд в том свете, сдержанном, уверенном и ясном, какой испускают из себя эти старые полотна, — внутри что-то перестроилось бы, глубоко и необратимо, в лучшую сторону. Надеюсь как-нибудь — пусть небуквально — осуществить эту идею.
Вы следите за современной русской литературой? Могли бы Вы назвать какие-то тексты, которые в последнее время Вас удивили?
К глубокому сожалению, у меня не получается следить систематически за современной русской литературой, и вообще художественные тексты я больше люблю перечитывать. И пере-перечитывать. Это такая увлекательная операция! — в сравнении с ней первый пробег по книге бледен и беден, даже когда увлекателен.
Интервьюер: Дмитрий Зайцев
Расшифровка интервью: Зоя Гусева
Корректор: Ганна Филатова
Подготовка к републикации: Мария Тухто
(26.01.2021)
[1] Интервью от 13 февраля 2020 года в №5 газеты «Литературная Россия»
