(Этюды)
Автор: Денис Сорокотягин
1.
Многие верят, что будет как прежде, и молятся (как умеют) о том, что когда-нибудь всё* это кончится, и они смогут вернуться в то допрежье. Над словом всё — звездочка — и где-то в конце этой книжки, которая ещё не написана, и вряд ли вообще будет иметь финал, я или кто-то за меня разместит примечание или развёрнутый комментарий для будущих поколений. Содержание этого комментария мы, сглатывающие это «всё под звездочкой» ежесекундно и уже рефлекторно, будем знать, как себя, то есть знать и не знать, и при этом — уверенно — утверждать, что всё было в нашей жизни не напрасно (иначе сход с ума), что оно сделало нас сильнее или, наоборот, ослабило. Всех, кто меня зовёт в допрежье, я посылаю куда подальше, все, кто усиленно ностальгирует (years ago), знайте: мне необходимо выучить новый язык безъязычья, а вы старательно вкладываете в мою голову старые тексты о главном, о вечном — удивительно, что это «вечное» осталось вечным даже сейчас, став при этом ещё более недосягаемым. Что я не могу ощутить его близости к себе, что оно вряд ли вместится в меня хоть какой-то своей частью. Где-то оно существует, это допрежье, с его прежней остротой восприятия, чувствования, с запахами давно покинутых людей, подъездов, где на втором этаже из пяти сварили суп: какой он на вкус, я мог узнать по запаху, чаще всего он был никакой, ничем не отличающийся от других супов похожей категории «что было — в котёл», но для меня он был особенным, его варили бабушка или дедушка, поодиночке или вместе, посолив каждый за себя, пересолив в итоге, но так и не взявши на себя вину за пересол.
Нет, всё же вспомню. Тягу не следовать туда, куда не хочется. Как можно вспомнить тягу? Оказывается, можно: снова ощутив ее в себе. Я был маленьким — это определение исчерпывающее для этого воспоминания, — меня вели от бабушки-дедушки в квартиру, где жили мама-папа (пока еще вместе). Два дома — полярных по своей сути — гостевой бабушко-дедушкинский был ближе по причине, с одной стороны, понятной (папа выпивал и не всегда был похож на себя), с другой стороны, иррационально-необъяснимой тяги (опять тяга!) к другому возрастному пласту — близкому мне, повзрослевшему, поседевшему внутри себя маленькому старичку. Идти от одного дома до другого десять минут, по одной улице с красивым и поэтичным названием (хочу сказать именем) Белореченская. Меня ведут, я следую за ведущим (не помню, кто это был, да это и неважно), на середине пути, рядом с магазином «Мебель», я вдруг понимаю, что не хочу идти в ту, другую квартиру, и принимаю внутри себя решение немедленно вернуться туда, откуда вышел несколько минут назад. Но ведь ты только что там был, — говорит мне неважно кто. Я плачу и, движимый своей упрямой инерцией, устремляюсь всем телом назад, пытаясь пробить твердолобым намерением неотвратимость перехода в другую квартиру, хочу назад — к бабушке-дедушке, к супу, от которого в моем памятном хранилище остался только цвет — мочевато желтый — и какие-то бледно-рыжие всполохи моркови и общее понимание, что суп не был и близко вкусным, однако он существовал там — в другом мире, из которого не хотелось уходить ни только в тот день, но и вообще никогда.
И меня вернули в тот дом, зареванного, усталого от плача и дороги туда-сюда, от боданий за право быть там, где хочется быть: видимо, мой поводырь, этот неважно кто, был не промах и долго не сдавал позиций, но детское победило, а взросло-стариковское во мне расхлебывало победу, держа в руках алюминиевую ложку, глядя в полную тарелку невкусного супа с плавающими морковинками. Я ел и думал, думал и ел, и когда мозг был занят думой, вкус отходил на второй план, мне нужно было придумать, как обмануть судьбу и не вернуться, никакой рефлексии победителя, мучительная работа мысли с перерывами на вкус вареной морковки, который мало кому нравится из детей, но с годами — взрослея — ты начинаешь ценить этот терапевтически-уютный вкус (во всяком случае, его начал ценить я). Тогда же морковь претила, выворачивала, рвалась наружу, путала мысль. Кто же знал, что суп — лишь предлог? Только я.
Я не вернусь в допрежье. Не зовите меня туда. Эти диафильмы с остатками слов, предложений — не для меня. Я поступлю по-своему, снова обману всех, рискуя запутать самого себя. Хочется вспомнить многое, но не из точки сегодняшнего дня, поэтому я буду модернизировать прошлое, взламывать его, дополняя тем, что никогда не было, а могло (на полях). Раз пока нет возможности предугадать будущность, кроме общего катастрофичного фона, который скоро, наверное, покроет и нас. Проступим ли мы через него, отбросим хотя бы тень, сохранимся, проявимся ли хоть с какой-то стороны, неизвестно никому, даже тем, кто в небесных сферах. Даже они в растерянности разводят руками.
2. Деду
Ты ведь, наверное, знаешь, что случилось со всеми нами. Давай я не буду рассказывать тебе об этом, хотя я привык делиться с тобой всем пережитым. Я в Москве, в пончиковой на Камергерском, которая больше не носит названия «Крайспи Крим», а называется как-то по-другому, так коряво, что даже сотрудники не до конца понимают, где они работают.
Я дал себе слово каждый год в день твоей смерти писать маленькое письмо тебе, и вот прошло два года, а кажется, что сто два, кажется, что за этот год я повзрослел на десять лет и боль нашей разлуки притупилась и почти (ты представляешь, и, наверное, всё во благо) исчезла, на неё навалились другие боли, но в то же время я ещё никогда не ощущал так остро твое живое присутствие во всем, что я пытаюсь делать сейчас.
Я сею добро, жду всходов, искореняю из себя зло, которое, как сорняк, лезет через чудом восстановленную почву. Я ухожу от стороннего зла, несу в себе свет (фонарь, ночник, огонёк, долгий блик). Я стараюсь всеми силами светить, лучеиспускать, обнимать и принимать тех, кто летит на этот новый и для меня самого свет. В этом году я отчётливо понял, что я не из тех, кто летит, а из тех, кто стоит и светит другим летящим. Я должен светить, наверное, в этом и есть главная задача моей жизни.
С самого детства я узнал, что такое травма войны, афганский синдром, видя своего папу (твоего сына), считывая тот системный сбой, который произошел во всём его жизненном устройстве. Он был как сложносочиненная фигурка из тетриса, никак не попадающая в уже имеющиеся пазы, на которые наваливались другие фигурки, еще и еще: игра кончалась, а зияющие просветы, дыры так до конца и не остались залатанными. Они вторгаются в мои сны и сейчас: мне снится дача, лето, какая-то понятная всем идиллия отдыха, я сижу на металлической скамеечке, которая сохраняет прохладу, несмотря на то, что стоит на солнцепеке и должна уже была нагреться, я загораю и параллельно мою тарелки, заляпанные жиром и кетчупом, остатками от шашлыка, беру отмокающие тарелки из вытянутого странного таза и натираю их, и, отражаясь в них, вижу себя почему-то в военной форме, в фуражке, обритого по уставу, перевожу взгляд на тазик и вижу, что это никакой не тазик, а гроб, а скамеечка подо мной — другой гроб. Точнее, они части одного, цинкового, того самого, и, судя по всему, сделанного кем-то под меня по спец. заказу. Солнце продолжает светить на тарелку, на красные (это не кетчуп) и коричневые (не шашлык) пятна. Я просыпаюсь и показываю средний палец изготовителю этого всего. Рядом со мной мои дети, твои правнуки, я смотрю в их смелые глаза, слежу за их свободными руками, они лучше меня, ты видишь это, они всегда желают отличиться (в хорошем и даже плохом), боятся быть похожими (это пока), и у них это получается (пока), но здесь они солидарны со мной (и с тобой). Один на всех жест несогласия. Одно на всех желание, чтобы это всё поскорее кончилось и что-то другое началось: осторожно, бережно, с трепетом и великим покаянием. Но конца не видно. И сон во сне никак не закончится.
Написал и задумался (на секунду), а зачем тебе это всё. Тебе ведь хочется о чем-нибудь хорошем: о спектаклях, о готовящихся премьерах, о книгах, которые скоро выйдут, о замечательных людях, без которых бы ничего этого не случилось. Каждый спектакль, текст, книжка — живое доказательство моего присутствия здесь, в этой точке пространства.
А сегодня был на пробах в кино. Это, наверное, мои третьи пробы за восьмилетнюю жизнь в Москве (я расценил их как твой подарок мне в день твоего ухода, ужасный оксюморон, но ты со своим фирменно-странным юмором оценил бы его). Никогда не ищу возможности сниматься, обычно возможность сама находит меня. Это был разговор с режиссёром, знакомство. На первый его вопрос — как дела? — я ответил: 8 из 10. — Куда делись ещё две? — Я молчу, зная, что и 8 из 10 — это заранее придуманная и, как выяснилось, рабочая схема, чтобы сберечь себя для какого-то неясного будущего. Будет ли в нём кино, для меня не так важно. Будем ли в нём мы — вот что меня волнует. И если случившийся вслед за этим теплый, внимательный и острый по мысли разговор с режиссером, которому я рассказал, что сегодня должен написать «Второй слой», — если всё это подстроил оттуда, «сверьху» ты, спасибо тебе.
Надо заканчивать, иначе рискую превратить письмо в подобие исповеди. В заключение хочу привести стихотворение Инны Лиснянской. Я полюбил ее стихи (на всю жизнь). Когда в жизни вдруг проглядывает вечное, до страшного остро проступает и желание жить. В стихах же не может быть иначе:
Судил меня Бог, и щадил меня Бог,
Берёг, и стерёг, и наказывал,
Но ни на одну из возможных дорог
Перстом никогда не указывал.
Сама по нутру своему выбирай
Свой путь, свой удел, свой уклад,
Не то преисподней покажется рай,
И раем покажется ад,
А выбрала, так никогда не жалей
Ни песен, ни башмаков!..
И выбрала я печальных друзей
И беспечальных врагов.
(И. Лиснянская, 1966 г.[1])
До следующего года. До следующего слоя. Твой Дениска.
15.06.2023
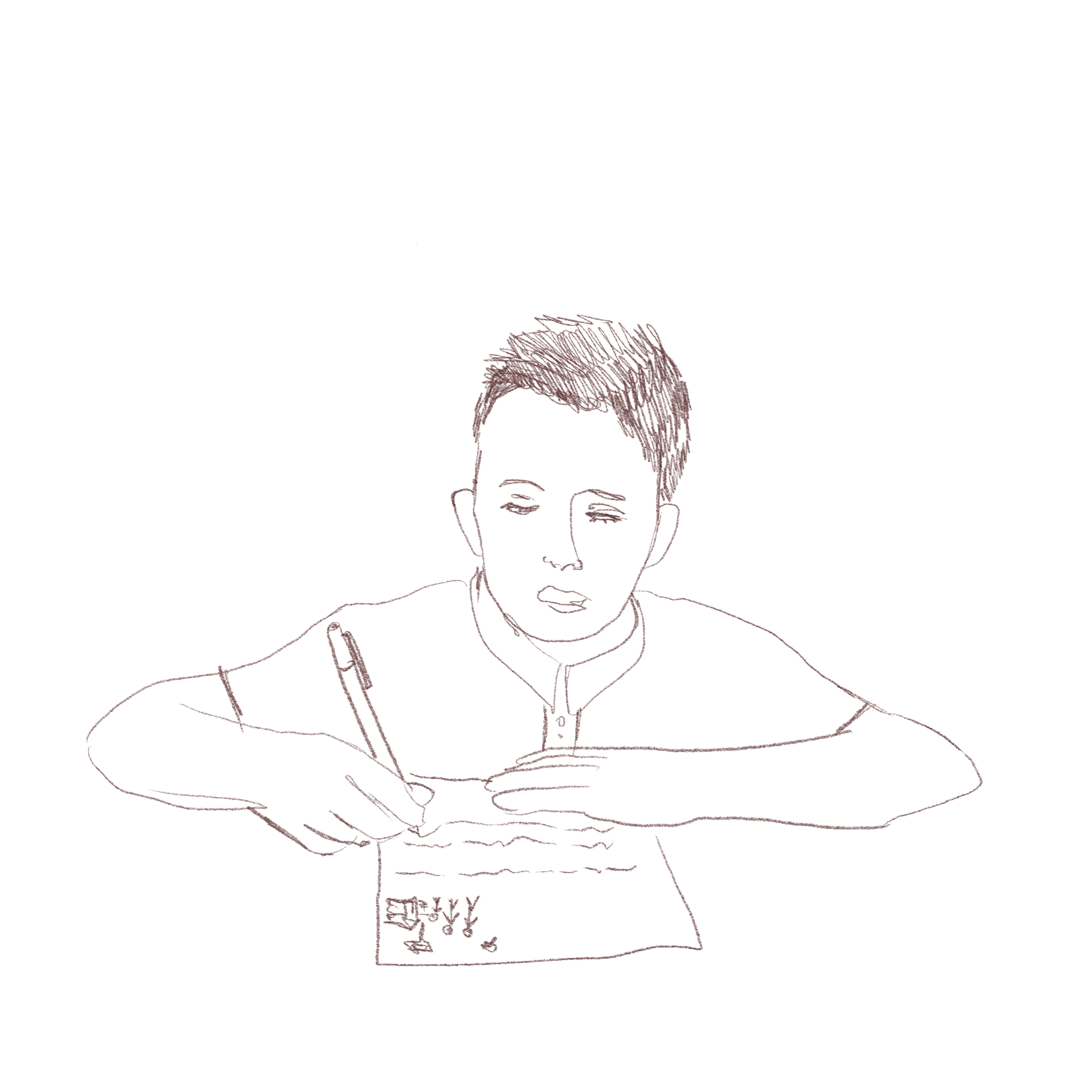
[1] Источник: ВАВИЛОН: Тексты и авторы: Инна ЛИСНЯНСКАЯ: «Одинокий дар»: Виноградный свет (1947-1975) (vavilon.ru) (дата обращения: 08.06.2023).

