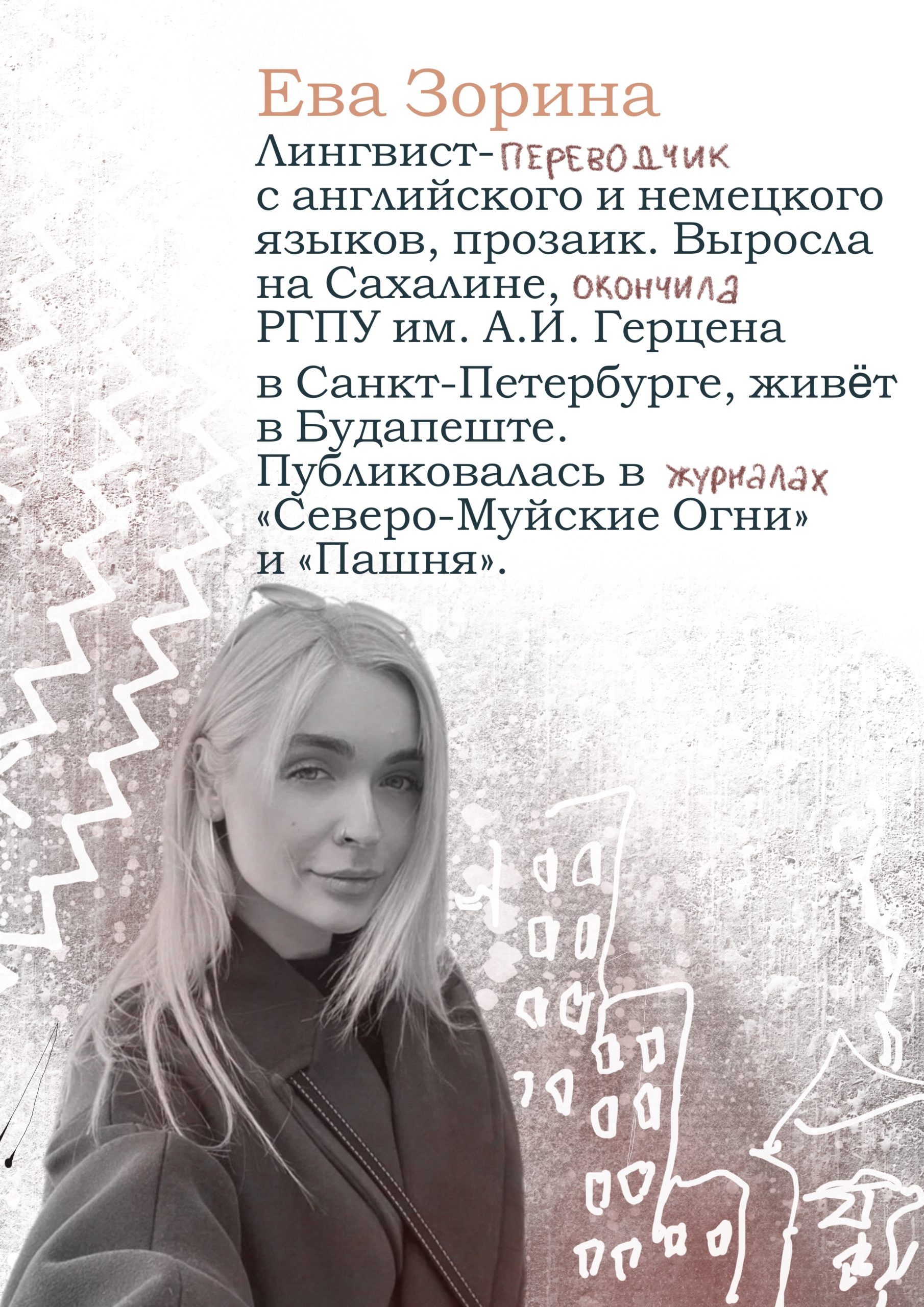
В начале был суп.
Сытный суп, пряный суп, вкусный суп. Суп всех супов — мамин. Суп со вкусом улыбки. С запахом безмятежности. С жирными пузырьками на поверхности, сверкающими, как само счастье. Архисуп, прасуп, основополагающий суп. Всё в нём было прекрасно и гармонично: шарики тефтелей, треугольнички моркови и кубики картофеля кружат в золотом бульоне, заправленном хмели-сунели. Это — первобульон нашей семьи.
Именно с него всё началось. Он был всегда: до первого сентября, до пластилиновых поделок, прописей с помарками и классиков на асфальте. До жвачки по рублю и мороженого в вафельном стаканчике — ванильного с шоколадной крошкой. До того, как розовый вечер сменялся синим и соседские дети уходили со двора. Суп был в начале начал, до первого слова, до моего рождения, до того, как мама впервые меня почувствовала. До того, как встретила моего отца.
Суп как основа мироздания. Красная строка. Ключ на нотном стане жизни.
Моё первое ясное воспоминание: дверной звонок заливается соловьиной трелью. Я бегу в коридор. Старый замок на засове — тяжёлом, скрипучем, давно его не смазывали — приходится отворачивать двумя руками. За порогом бабушка с дедушкой, а рядом холщовый мешок ему по пояс: картошка. Деда хватает меня на руки, отрывает от земли — его куртка пахнет сырым погребом. А бабушкины поцелуи — пудрой и красной помадой. Мамин голос с кухни в поисках папы: «Эдик, родители твои пришли! В магазин за фаршем, срочно!»
И тут начинается. Начинается общее. Супа не было без семьи, семьи не было без супа. У каждого своя партия, своя роль, свой ингредиент. Бабушка вырастила морковь. Дедушка привёз в багажнике картошку. Папа взял список и пошёл в магазин с двумя чёрными пакетами в кармане. Мама поставила воду. Я учусь чистить картошку, хотя нож меня не любит и пальцы вечно меня не слушаются. Даже Реки, наш остроухий доберман, и та косится на меня с ухмылкой. А сама караулит миску со взглядом, какой бывает только у голодной собаки: знает, что перепадёт.
Но главная во всём этом оркестре, конечно, мама: она дирижирует ножом и поварёшкой, и разноцветные кусочки сами прыгают в бульон. Над кипящей водой радостно барабанит крышка. Я поглядываю на доску: слежу, чтобы мама не вздумала добавить лук. Она и так не добавляла: знала, что меня не проведёшь, и встреть я в супе хоть одну мерзкую, скользкую медузу, он тотчас разольётся между нами океаном обманутого доверия.
И вот время к двум. Мама склоняется над кипящим бульоном. Её волосы завиваются от пара и блестят на солнце — золотым, оранжевым, красным. Все замирает: пылинки в воздухе, валик тополиного пуха на жестяном подоконнике, беспокойная собака, секунду назад маявшаяся у миски. Безмолвное, тягучее мгновение, когда слышно только мерное тиканье часов. Мама набирает воздух, дует, подгоняя лужицу к самому берегу ложки. Осторожно снимает пробу. Медленно кивает. На весь дом раздаётся звонкое: «Готово!»
Все снова приходит в движение — вращающиеся пылинки, тополиный пух, обрезанный хвост Реки — мимо плывут ложки и тарелки, солонка и салфетки, кухня сменяется гостиной. Длинный стол заправлен хрустящей скатертью, а на ней — подставки из деревянных бусин. У меня самая большая ложка: моя любимая, идеально круглая и глубже других. Помню первую похвалу, первую победу, лучики у маминых глаз: на дне пустой тарелки солнечный блик. «Добавки?» — спрашивает она. И я, надутый, как резиновый шар, с блестящими от жира губами, вытираясь рукавом, икаю и верчу головой: «Не влезет».
Мама с папой даже познакомились за порцией супа в строительной столовой. Местные щи были настолько скверными («баланда, даже костей для жиру не бросали», — так они говорили), что мама пригласила папу на правильный суп, который она варила по воскресеньям. А он пообещал привезти продуктов. Так у них появилась первая общая цель.
Узнав, что сын повстречал женщину, которая могла как следует его накормить, бабушка дала благословение. «Не то что все эти артистки, феминистки, эгоистки, и ещё чёрт-те какие -истки», — добавила она. Да и дед, знавший толк в домашнем обеде, сразу согласился. И не прогадал: помню, как-то раз после тарелки маминого супа он танцевал — подпрыгивал и крутился на новеньком протезе, как циркуль. Вы когда-нибудь видели, чтобы полуглухой старик, всю жизнь бывший кузнецом на заводе и потерявший ногу, танцевал? А мой дед танцевал, и Реки, резвясь, хватала зубами его штанину и подскакивала на задних лапах, будто тоже танцуя, а бабушка смеялась так, точно ей было двадцать.
Оттого я так любил этот суп. За ним царил мир, за ним забывали обиды, говорили только о добром. Так было долгие годы.
И лишь однажды за столом всё-таки поссорились. Папа сказал, что не голоден — и отказался обедать. Мама разозлилась и выпалила, что он ест в другом доме.
Но я знал: стоит доесть суп, как всё наладится — такова уж была его сила: как у приметы или заговора. Родители молчали, а я черпал бульон, стуча любимой ложкой, которая едва влезала мне в рот, и черпал, черпал, как черпают воду из шлюпки, пока ведро не ударится о дно. И мои щёки горели от перца и кориандра, и глаза слезились; а я всё хлебал и хлюпал, хлебал и хлюпал — пока не заболел живот — и всё равно попросил добавки.
Но в тот день магия супа рассеялась. Мама с папой не помирились.
Неделю спустя, когда бабушка с дедушкой по обыкновению приехали на обед, за столом молчали.
А потом папа ушёл. Бабушка выругалась, что к какой-то артистке. Позже выяснилось, что у них тоже был сын.
Наш дом опустел: остались только я, мама и Реки. Помню, я стоял в коридоре, глядя на дверь снизу вверх, и ждал, что соловей запоёт снова. На кухне гремели кастрюли, мерно стучал по деревянной доске нож. А потом наступила тишина. Мама закрылась в комнате, оставив кастрюлю кипеть. Я вошёл в кухню, выключил плиту; синее пламя удивлённо свистнуло. Вулканчики на поверхности воды разгладились. Реки поглядела на пустую миску, дёрнула обрезком гладкого хвоста. Заскулила. Поплелась к маминой комнате, стуча когтями, и легла, уткнувшись носом в зазор между дверью и паркетом в попытке уловить что-нибудь в тянувшем по полу сквозняке. Я сел рядом, припал ухом к двери. Из спальни не доносилось ни звука. Тогда я тихо повернул ручку, приоткрыл дверь и увидел: мама застыла на краю кровати, глядя в пустую тарелку.
Она не выходила из комнаты три дня.
На четвёртый её забрали. Забрали в пасхальное воскресенье, волоча за локти, обмякшую, обмаравшуюся, растрёпанную. Реки и рычала, и лаяла, и выла, будто не знала, как лучше. А мама так и молчала, вцепившись в пустую тарелку. В конце концов и тарелку у неё отобрали.
А потом — дымка, муть, илистое дно. Помню, как я переехал к бабушке и как мы иногда навещали маму. Со временем её след начал путаться: то переводили из лечебницы в лечебницу, то переформирование, то по направлению к другому врачу, пока не увезли за четыреста километров от города. И однажды нить из красного клубка, который катился вдаль за моей мамой, оборвалась. Больше мы к ней не ездили. Старики сдались.
Я мучил их вопросами, и они пытались эту историю оправдать, пригладить, местами подправить — и получилась летопись, много раз пересказанная, местами путанная, некоторые страницы смялись, другие раскрошились или вовсе выпали. Я так и не узнал, где оказалась мама и где именно теперь жил отец. Во всём этом сбивчивом рассказе суп остался единственной истиной — ослепительной, достоверной, с запахом и вкусом. Блестящее стёклышко в жестяной коробке пыли.
И вот, пятнадцать лет спустя, я снова вижу её перед собой: маму. Слишком рано старенькую, в очках. Ручки, высохшие и свернутые, как птичьи лапки, и жест, кольнувший мою память — как она складывает одну в другую, поджав под грудью, совсем как раньше.
— Суп уже готов.
И я вздрагиваю: её голос тот же.
Сажусь на скрипящий стул, впервые ногами достаю до пола. И понимаю: бабушки с дедушкой больше нет. Реки тоже. У отца другая семья, и, наверное, они тоже варят суп. И всё же я беру ложку, как весло, — и надеюсь переплыть Ионическое море маминого супа, и вернуться домой, на Итаку, и снова оказаться в том дне, когда дедушка танцует, собака заливается лаем, и звучит бабушкин смех.
Мама берёт поварешку и черпает из кастрюли воздух. Ставит передо мной тарелку.
Лучики у её пожелтевших, больных глаз.
— Папа сказал, вкусно.
И я киваю. Беру ложку, размешиваю пустоту. И мне мерещатся острые уши Реки за обрывом стола, стук часов, зависшие в воздухе пылинки.
17.10.2023

