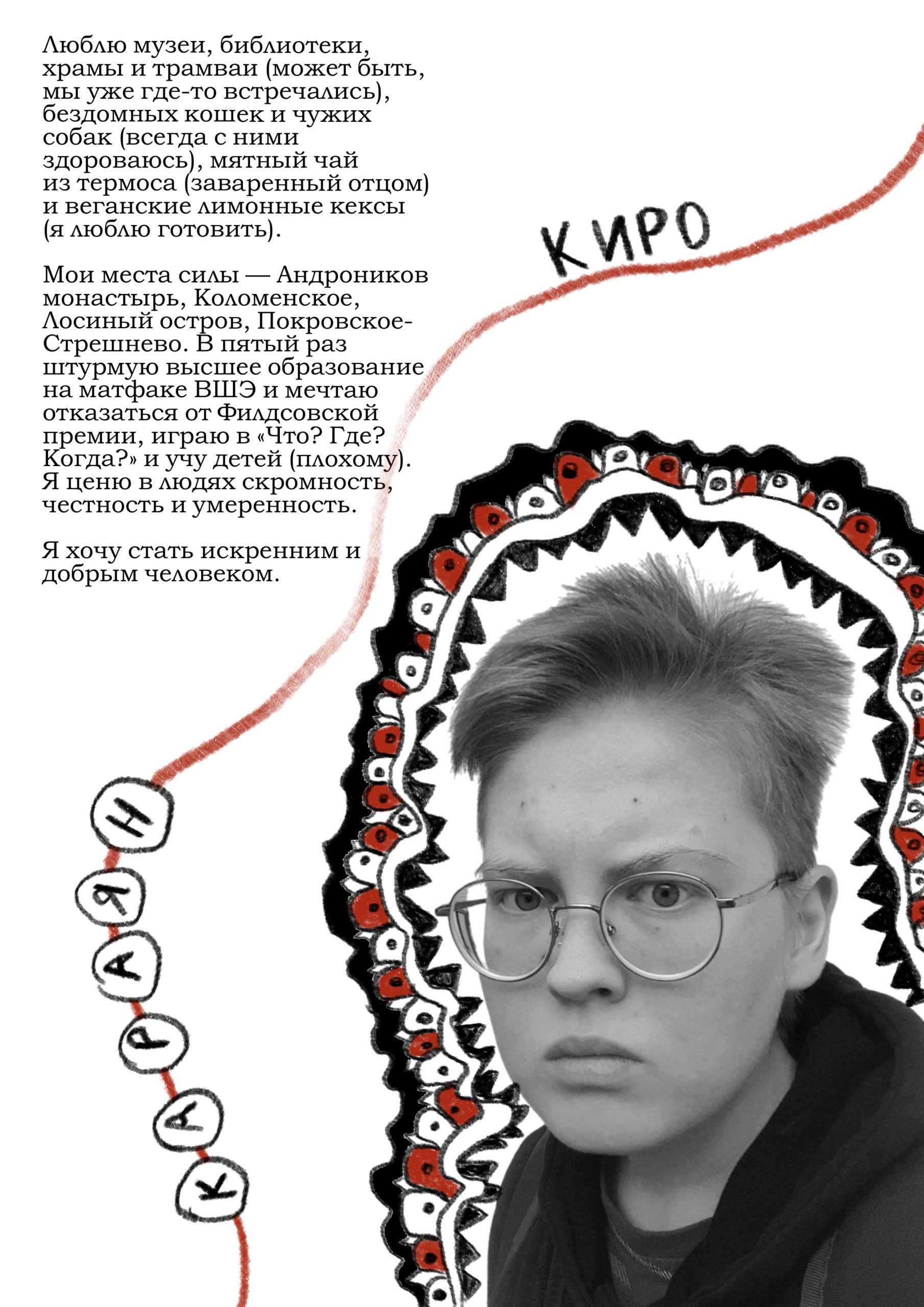
Приемка
В медицинском заключении краем глаза мне удалось ухватить: «О попытке прыгнуть с моста говорит с улыбкой, индифферентно. Критики нет». Поэтому, говоря о попытке прыгнуть с моста, я делаю скорбное лицо и прибавляю: «Это было большой ошибкой».
Согнувшись в три погибели, чтобы не стукнуться головой о потолок, я с двумя увесистыми пакетами вслед за врачом вылезаю из машины скорой помощи навстречу зданию, внешние признаки которого мне не удается установить из-за темноты. В мертвенно-бело освещенном холле чисто, как в операционной, и мои успевшие изгваздаться в первом октябрьском снегу кроссовки оставляют на пути к металлическим сиденьям позорную дорожку. Врач размашисто здоровается с чего-то ожидающими коллегами, его спутница с папкой торопливо шмыгает в уголок, я занимаю место возле огромного санитара с детским лицом.
В пяти шагах от меня — стойка с антисептиком. Я уверенно направляюсь к ней: раз, два, три, сзади меня обхватывают грубые сильные руки, тянут назад, сбивают с ног.
— Присядь.
Взглядом прошу помощи у в машине казавшегося мне добродушным врача скорой помощи.
— Мне руки обработать…
— Присядь. Тут такие правила.
Огромный санитар — безмятежное лицо десятилетки — равнодушно плюхается на прежнее место.
Сволочь. Сволочь. Ничтожество. Слезные мешки неумолимо наполняются жидкостью. Мразь. Будь ты проклят до седьмого колена. Жидкость стремительно стекает по щекам. Перестань. Прекрати немедленно, дрянь. На насекомых не обижаются. Жидкость на белоснежной плитке скапливается в две лужицы. Гнида. Чтоб у тебя первичные половые признаки на лбу выросли. Тварь…
Закончившая шуршать историей болезни медсестра выкрикивает в открытую дверь мою фамилию. Молодой прыщавый дежурный врач смотрит испытующе-приветливо-участливо, делает вид, что не замечает моих слез.
— Расскажите, что случилось, как попали в больницу?
Я в сотый раз воспроизвожу историю попытки прыгнуть с моста, не забывая прибавить рефрен о большой ошибке.
— Я смотрю, вы две недели пролежали в другой больнице. Проведете у нас выходные, в понедельник поговорите с врачом, во вторник домой.
Я знаю, что он врет.
Санитар берет меня под руку. Я бросаю на него взгляд, способный испепелить лабораторную крысу.
— Не трогайте меня!
— Я обязан придерживать пациента.
Меня ведут по коридору в соседний кабинет. Врачи скорой помощи и последний глоток недолгой свободы остаются позади. Пожилая санитарка выглядит не приветливее своего вечно юного коллеги.
— Вставай на весы. Шестьдесят пять.
— Можно взять в отделение книги, штаны и теплую кофту?
— Одежду тебе выдадут. Книги — не положено.
Поток слез возобновляется с удвоенной силой.
— Ладно, возьми одну.
— М-мне ту, что потолще, п-пожалуйста…
Санитарка вытаскивает из пакета «Сходство» Таны Френч. Дня на три хватит.
В следующем помещении — кафельные стены, кафельный пол, одинокая ванна по центру и всё тот же огромный младенец-санитар.
— Раздевайтесь. Когда мылись?
— Вчера вечером.
— А по́том нормально так попахиваешь.
В который раз я отмечаю странную манеру санитаров перескакивать с «ты» на «вы» и обратно, как будто они иногда вспоминают о человеческом достоинстве пациентов.
Заходит врач. Разглядывает меня, как редкий экспонат кунсткамеры, что-то черкает в блокноте.
— Тэк-с… На предплечьях шрамы от порезов и ожогов… Сигареты? На бедрах шрамы от порезов, следы самоповреждения на лице. Повернитесь спиной.
Меня трясет так, будто я жду неминуемого выстрела в спину. Никогда еще мне не приходилось настолько остро ощущать собственную уязвимость.
— Чего плачем? — врач наконец перестает делать вид, что ничего не замечает.
— Не разрешили взять теплую к-ко-о-фту…
— Вам всё дадут. У нас нельзя в своей одежде. Такие правила.
Врач выходит. Да, это было большой ошибкой. Шрамы от порезов и следы самоповреждения на лице, ожоги и прыжок с моста. Ошибки, которые навсегда на мне. Ошибки, которые привели меня сюда, благодаря которым я стою голышом посреди кафеля и подчиняюсь приказам дуболома-санитара с пухлым ртом и глазами-васильками.
— Садись в ванну, промывай голову, подмышки и пах. Холодная?
— Не-а, нормальная, — выдавливаю я сквозь слезы и бьющие по голове струи слишком горячей воды. Мне не хочется разговаривать с санитаром, и я терплю.
— Ну вот. Вылезай аккуратно, вытирайся, надевай тапочки, — подает мне маленькое полотенце, напоминающее кухонное, и бросает «тапочки» на пару размеров больше моего.
— Одевайтесь.
Передо мной на банкетке — безразмерная рубашка неопределенного цвета, застиранный до того же цвета халат, носки до колена и синие спортивные штаны с лампасами, без резинки. На мне они сидят парусом в страну убожества духа и мысли.
— Галоши, — синие, внутри черные и слегка свалявшиеся, с трудом удерживаются на ногах.
Откуда ни возьмись появляется второй санитар среднеазиатского происхождения, старый или выглядящий намного старше своего возраста, почти совсем лысый, посверкивающий металлическими коронками. На меня накидывают некое подобие тулупа со сломанной молнией («застёгивайся на кнопки»). Ангелами-хранителями санитары берут меня под руки и более-менее бережно выводят на улицу. Поскользнувшись на лестнице между четвертым и пятым этажами соседнего корпуса, я испытываю искреннюю благодарность. На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою.
Передо мной распахиваются двери отделения. Я улыбаюсь и желаю вышедшему навстречу медбрату доброго вечера. Я больше не могу сдерживать рыдания. Это было большой ошибкой.
День
День в дурке начинается в семь тридцать с удара по глазам беспощадно белым светом. Проворочавшись на жестком матрасе минут двадцать, я встаю, нашариваю казенные розовые оверсайз-тапки и сонно ковыляю в туалет. Первый заход — снова нет бумаги, приходится возвращаться за своим рулоном. Второй — поссать, умыться (мыла в дозаторе пока предостаточно), выдавить вылезшие за ночь, как грибы после дождя, прыщи (дурная привычка, санитарки ворчат, заставая меня за этим занятием). Вернуться в палату, вытереть лицо полотенцем (я не беру его в туалет, боюсь уронить в унитаз). Третий заход — почистить зубы (ярко-желтая щетка радует привыкшие к оттенкам белого глаза, апельсиновая паста вкусно холодит обложенный за ночь язык), наблюдая из окон умывальника динамику включения света в окошках вольного дома через дорогу.
Слегка посвежев после водных процедур, я с предельной аккуратностью заправляю постель (разровнять простыню, чтобы ни одной складочки; одеяло одинаково свисает с обеих сторон кровати; покрывало охватывает всю площадь одеяла; две подушки закрывают изголовье, куда покрывало не дотянулось). Беру с тумбочки стаканчик (психушечный zero-waste), шлепаю к кулеру, лихо опрокидываю два. Наступает тягучее время безделья: до завтрака минимум полчаса, максимум полтора. Раз двадцать прошатавшись по коридору от поста до туалета и обратно, пытаюсь читать «Замок» Кафки, загадочным образом очутившийся в микробиблиотеке комнаты отдыха среди почти полного собрания Донцовой и тоненьких православных книжек на все случаи многострадальной жизни. «Значит, все-таки случилось то, что можно было предвидеть, но нельзя было предотвратить». Можно ли было предотвратить мое непредвиденное попадание в дурку?
— Девочки, диета, рассаживаемся! — звучит сигнал к завтраку. Нужно успеть в столовку, пока диабетики занимают специально отведенные им места. В прямом смысле роняя тапки, я почти бегу (совсем бежать нельзя — непременно заругает случайно встретившаяся медсестра) к заставленному столами расширению коридора. На тридцать человек всего пять столов по четыре стула. Хищной птицей нацеливаюсь на ближайшее ко мне место.
— Седьмая-восьмая, садимся!
Я устремляюсь к «своему» месту, но меня опережает Гертруда (вообще-то ее зовут Светлана, но Ксюша уверена, что она выглядит, как Гертруда, — высокая, худая и жилистая. Я думаю, что Гертруда — это мощная воительница вроде Брунгильды, но с Ксюшей не спорю. Гертруда всегда выигрывает сражения за пульт от телека и, торжествуя, включает ментовские перестрелки по пятому каналу).
Минут через пять кто-то встает из-за стола, и на этот раз я успеваю занять место. Санитарка ставит на стол мой завтрак: щедро положенную треть тарелки манной каши, масло в пластиковой упаковке, по ломтику белого и черного хлеба, кусок сыра, полкружки чая. Я откладываю хлеб в корзинку посередине стола, крошу сыр в чуть теплую манку, туда же выдавливаю масло. Через пару минут тарелка опустошена. Я в два глотка выхлебываю холодный чай, возвращаюсь в палату и заваливаюсь на кровать. В дверной проем въезжает гремящая тележка — раздача лекарств.
— Семь таблеток сожрала, — хвастаюсь Ксюше.
— Трээш!
Теперь ждем обхода. Наша восьмая палата последняя в очереди. Врачи в ослепительно белых (белее стен и отдраенных в генеральную уборку унитазов) халатах заходят торжественно, за ними гуськом, как цыплята за курицей, появляются ординаторы. Процессия останавливается возле каждой кровати, спрашивает о жалобах.
— Как спала?
— Прерывисто. И раннее пробуждение, — за три недели в психушке я выучила всю терминологию, описывающую мое довольно плачевное, но с хорошим прогнозом состояние. Белые халаты уходят, и я облегченно принимаю горизонтальное положение. Заходит Ксюша, садится рядом. Я достаю из тумбочки карандаши и разрезанные надвое листы акварельной бумаги, опасливо сую под подушку точилку. Мы рисуем в относительной тишине, пока санитарка не выгоняет всех из палаты для уборки.
До обеда где-то два часа. Я снова берусь за поднадоевшего Кафку, Ксюша углубляется в «Миры Роберта Хайнлайна». Потом мы долго ходим туда-сюда по коридору, «растрясаем жиры», постоянно уступая дорогу персоналу и получая от него предупреждения за слишком быструю ходьбу: «Вы не на улице, а в отделении».
Вот и обед — полная тарелка горохового супа, плов, облепиховый кисель. Я наконец-то успеваю занять место в первую смену. Ксюша перекладывает в свою тарелку мой плов: веганить в дурке у меня не получается, но я решительно отказываюсь от мяса, рыбы и вечерних йогуртов.
Прогремела тележка с таблами. На посту — щелчок-щелчок-щелчок — вырубают свет в палатах, и я не успеваю прочесть последнюю, двадцать пятую главу «Замка». Тихий час. На посту громко смеются медсестры. Во второй палате истязаемая санитарами бабка орет: «Сергеей Шойгуу! Звóнит тебе Нина Петровна!» Утром Шойгу показывали в новостях: прилетел на Донбасс. Видать, сбился с курса на нашу психбольницу. Для разнообразия я каждые пятнадцать минут хожу попить водички и бегаю в туалет. В туалете без дверей, охая, восседают на унитазах бабки.
— Девочки, по-олдник! — ор из столовой; время — четыре. Оказывается, к самому концу тихого часа мне удалось уснуть.
На полдник сегодня бананы. Я уверенно сдираю шкурку, начиная с черного конца.
— Вау, ты так странно открываешь банан, — в голосе Ксюши сквозит удивление, граничащее с восхищением.
— Я всегда так открываю, а что такого? — в свою очередь удивляюсь я.
Ксюша пытается очистить банан моим способом. У нее выходит содрать только верхний слой шкурки. Я забираю у нее искалеченный плод и ловко исправляю ошибку.
— Держи. Учись, пока я жива.
— Девочки, кто на прогулку, собираемся! — санитарка оглашает список из шести фамилий: самые смирные и вызывающие доверие. Непонятно, как я осталась в их числе после эпизода с битьем головой об унитаз в знак бунта против отказа в выписке. Мы облачаемся в казенные тулупы и сапоги — мне удается шустро ухватить обувь по размеру. Сегодня нас ведет гулять хорошая санитарка — мы не идем в тесный дворик, а бродим по всей территории больницы. На экране у большой клумбы — спортивные соревнования среди сотрудников дурки. Завотделением лихо прыгает в мешке, астенически сложенные ординаторы тащат на носилках полненькую старшую медсестру. Ксюша на ушко сообщает санитарке, что хочет в туалет. Мы впотьмах бредем к нашему седьмому корпусу.
Я сразу иду мыть пропахшие больничными сапогами (смесь дезинфицирующего средства и пота) руки. В столовой накрывают ужин. Пшенная каша и запеканка с морковью — праздник живота. Теперь Ксюшина очередь делиться со мной едой: она на дух не переносит морковь.
Остается дождаться вечерних таблеток, а после кульминация больничного дня — звонки.
— Мне с сотового, — медсестра вытаскивает из коробки коричневый пакет с моей фамилией. Я быстро, пока она не засекла, отписываюсь подругам в телеграм-чатик, что у меня всё в порядке, и звоню маме.
— Как ты, птенчик? — до быстро привыкшего к вездесущему хамству сердца потихоньку доходит ее нежность.
— Нормально. Нарисовала три картинки. Читаю Кафку.
— А там нет чего-то другого почитать?
Выслушав немногочисленные семейные новости (Илья продал компьютер; папа починил полы в лавочке некой тети Нади), я звоню подруге. Она сидит на паре, но ради меня выходит из аудитории. Мы обсуждаем мои болячки и ее карьерные планы. Я остаюсь на посту последней, остальные уже позвонили. Медсестра подгоняет меня, и я поспешно кладу трубку.
— Девочки, на передачки! — еще один приятный эпизод долгого дня.
Спешу в комнату отдыха, достаю из пакета любимый хумус с хрустиками: «Ксюш, будешь хумус?» Я угощаю Ксюшу хумусом и протеиновым батончиком, она меня — вторым за день бананом и имбирным печеньем. Наверстав недоеденное за день, мы расходимся по палатам. Я наконец добиваю Кафку.
— Девочки, на йо-о-гурты!
Я не поднимаюсь с кровати: кислые «йогурты» мне не нравятся, да и надо все-таки держаться поближе к веганству. Начинаю новую картинку: из угла листа расходятся разноцветные полосы, из центра вырывается голубой круг.
Плафоны гаснут. Включается неугасимый ночник — при таком освещении с трудом, но можно читать. Чтобы защититься от света, я натягиваю на голову трусы, представляю хвойный воздух и заиндевевшие дорожки Лосиного острова, проваливаюсь в беспокойный прерывистый сон.
Лифтер Миша
Миша маленький, лысоватый, вечно небритый мужичок неопределенного возраста (ему смело можно дать от двадцати до сорока). У Миши глубоко посаженные внимательные карие глаза, аккуратный прямой нос, мягкий спокойный рот. Миша всегда одет в одну и ту же кофту (черно-серо-белая полоска, по бокам глаза зебры), черные спортивки и белые стеганые кроссовки с синими вставками.
С прямой спиной, с видом, исполненным чувства важности проделываемой работы, Миша распахивает двери лифта. Его движения плавны, машинальны, предельно профессиональны: ни один лишний мускул не дрогнет, пока он отводит две (зачем их столько?) двери в сторону, задвигает их обратно, сосредоточенно нажимает на нужную кнопку.
На приветствие Миша отвечает вежливым кивком и тихим мягким «здрсте» (не самое мягкое звукосочетание, но у некоторых людей все слова выходят мягкими, как выпавший за январскую ночь слой снега).
Пока едет лифт, Миша, опершись о стену и выгнув спину, внимательно осматривает стену противоположную. В Мишину смену на тумбочке никогда ничего не лежит. Миша не читает газет. Мишино лицо невозмутимо и полно достоинства. Он почесывает небритый подбородок, мыслями далекий от ударами вгрызающегося в этажи лифта и с лифтом слившийся. Миша — лоцман лифта, вошедшие смотрят на него с почтением.
Лифт тормозит. Миша отточенными танцевальными движениями (раз — открыть засов, два — отвести дверь, три — распахнуть вторую) выпускает пассажиров. На «спасибо» Миша неизменно реагирует чуть слышным «пжлста» (его голос слегка идет вверх, затем спускается вниз, сопровождая дружелюбный наклон головы).
Двери закрываются. Миша остается один в лифте.
* * *
С широко закрытыми глазами и гордо опущенной головой иду по коридору психиатрического отделения. От столовой до туалета — время падения с Крымского моста, от туалета до поста — срок действия антисуицидального соглашения. Со звоном в ушах и дрожью в руках — сто шагов туда и обратно в безрезультатной борьбе с желанием биться головой об унитаз, раз за разом — пост, туалет, столовая, буфет закрыт до обеда с кислой капустой или сладкой морковью, кровью наливаются глаза, чешется лицо, трясутся ноги, «боги-боги-девочке-здоровьица-боги» — взывает привязанная к стулу баба Нина, картина неизвестного душевнобольного на стене — мирные домики (напоминают Клее), томики Донцовой в шкафу комнаты отдыха, дыхание угнетено яростью или хлоркой, убивать, убивать, убивать. В столовой накрывают обед, в процедурном делают уколы хоть в левую, хоть в правую, хоть посередине. В синей тьме за окном затаилась воля, месяц невиданная, полузабытая, спрятанная за решетками и дверями без ручек, охраняемая санитарами и заборами, шторами задергиваемая на ночь с белым плафоном ночника, неугасимой лампадой нависающего над сонными узницами системы психиатрической помощи, в половине клинических случаев мучимых хронической бессонницей. Туда и обратно, мимо кучки пациенток у процедурного (очередь на волшебные уколы: забудешь родимый дом, кого любил, разлюбишь), мимо ментов с пятого канала и гламурных подонков с МУЗ-ТВ, мимо непрекращающейся ссоры из-за пульта от телека, мимо громких в тихий час санитаров, жестких кроватей, халатов, тулупов, казенных трусов и сапог, ароматов толчка и духов врачей, горохового супа и овсяной каши. Наши желудки отвыкли от жареного, наши ноги отвыкли от улицы, наши лица отвыкли от зеркала.
<…>
Сорок шагов — двадцать секунд. Пост — туалет. Удар. С разбитой башкой и счастливой улыбкой вяжет меня санитар.
* * *
В туалете психиатрического отделения нет дверей, а также бумаги и мыла. Воздух насыщен хлоркой и смрадом от бака с отходами класса «А». Чинный ряд унитазов отражает мертвый свет ламп. Зарешеченное окно защищает от меня волю. Я бьюсь башкой о бачок, не замечая боли.
В столовой психиатрического отделения нет ножей и вилок. Двадцать мест на тридцать пять человек. Суп гороховый, борщ вегетарианский. Капуста квашеная и морская. Каша овсяная, манная, геркулесовая, пшенная, кукурузная. Грузная санитарка накрывает на стол. Чай — треть кружки, ломтик хлеба. После сытного обеда полагаются таблетки. Шум тележки, горсть в ладони. Запивай — и тихий час.
На дверях психиатрического отделения нет ручек. Специальный ключ открывает пост, процедурный, буфет, ординаторскую, комнату отдыха. Ключ — привилегия персонала. Я украла его в одном из нейролептических снов.
В комнате отдыха психиатрического отделения — полное собрание Донцовой, Горький, Кафка, молитвословы. В коридоре кричат мою фамилию. Здравствуй, мама. Всё в порядке. Мне давно уже не гадки те привязанные бабки, ор усталых санитаров, вездесущий дух мочи.
В процедурном кабинете психиатрического отделения мне каждый вечер ставят уколы. Медсестра виртуозно находит неисследованные места. Наверное, тяжело ей видеть жопы вместо лиц. Меня мучают хронические боли в области ягодиц.
19.12.2023

