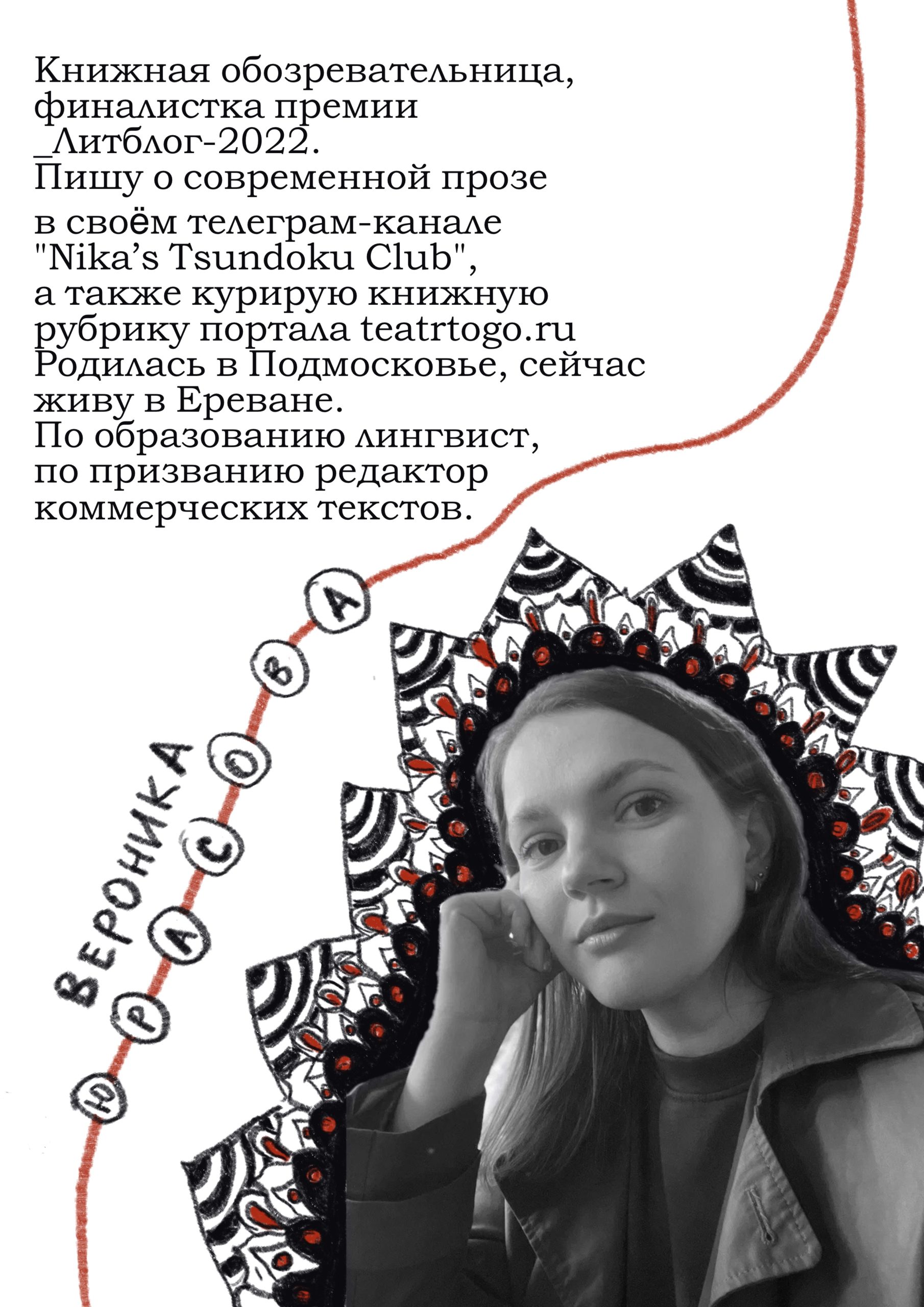
…Мощные события личной жизни, связывающие писателя с его поколением, с его классом, с его эпохой, имеют для него чрезвычайную важность, но при условии, что впоследствии он сможет достаточно умело отделить себя от этого опыта, чтобы изучить его как бы со стороны, объективно и непредвзято.
(Филипп Рот)
Я открыла «Рану» Оксаны Васякиной летом 2021 года. Тогда моей дочери было шесть месяцев, и я много читала, пока ребёнок спал. Роман Васякиной заинтересовал меня в первую очередь противоречивыми рецензиями: одни говорили, что готовы расцеловать книжку во все буквы, другие — что это нытьё и самолюбование. Такая полярность мнений подтолкнула меня составить своё. Очень быстро стало понятно, что осилить этот текст за привычные несколько вечеров не получится, а само чтение вызывало целый спектр эмоций от раздражения и абсолютного неприятия до сопереживания и глубокого сочувствия.
Эти эмоциональные противоречия чем-то напоминали послеродовую хандру, когда тебя переполняет любовь к своему малышу, но при этом тебе очень плохо, потому что привычка отдавать всю себя другому ещё не сформирована, жизнь перевернулась с ног на голову, и ты пока не знаешь, как приспособиться к новой реальности. С «Раной» было нечто похожее: это был совершенно новый опыт. Всякий раз, с трудом погружаясь в эту разножанровую, очень откровенную и не слишком выверенную технически историю, я, как будто чувствовала возможность читательского роста. Только спустя время я поняла, каких ощущений роман оставил больше. Главным из них было одно: это написано для меня и обо мне.
Тогда же я впервые узнала об автофикшене как жанре. В то время как в России уже активно обсуждали рассказы Наталии Мещаниновой и ряд зарубежных книг с похожим уровнем откровенности от первого лица — эссе Вирджини Депант или «Обыкновенную страсть» и «Годы» Анни Эрно — я ничего подобного ещё не читала. Чуть позже, в 2022 году, такую литературу у нас начнут называть литературой травмы. Совсем скоро одни будут запойно её читать, другие — самоотверженно ругать.
Претензии ругающих, как правило, сводятся к тому, что молодые авторы используют некую заезженную «повесточку» (обычно используется именно такая насмешливая формулировка, при этом значение слова не объясняется) ради монетизации своего травматичного опыта, что все книги практически не различаются сюжетами и что сам тренд стремительно сдувается. Например, критик и поэт Константин Комаров пишет: «Эту “повесточку” выгодно теребить до упора (а “упора”, вероятно, нет), ибо она являет собой золотую жилу копеечных псевдопоэтических спекуляций, формирующих символический (а в случае Васякиной — и вполне реальный) капитал»[1]. Возможно ли хоть сколько-то обогатиться или сделать себе имя на текстах, которые никому не нужны, которые не говорят с читателем о важных для него вещах, а просто «теребят повесточку»? Получается, читатель такой литературы не очень умный человек, который гонится за одной только актуальностью?
Когда я только открыла «Рану», моей первой, полагаю, защитной реакцией были ощущения, в чём-то схожие с отзывом Комарова: «Да что она себе позволяет?», «А зачем настолько откровенно?» Однако к концу прочтения, когда я уже сроднилась с текстом, реакция сменилась на «А что такого, собственно?» И в самом деле, что такого с нами, взрослыми людьми, может случиться, когда мы встречаем в автофикциональном современном тексте слова, прямо описывающие женское тело, процесс умирания близкого человека или личный сексуальный опыт? Неужели пятьдесят или сто лет назад у женщин не было половых органов, а родственники умирали сплошь красиво и быстро, не доставляя никому неудобств? Или дело в открытости и уязвимости, которые и называют «повесточкой»?
В литературе травмы можно рассмотреть не только стремление называть вещи своими именами, не только равнение на тексты западных авторов, но и умение сделать личное жизнеописание качественной прозой. Авторы эксгумируют свой болезненный опыт — и не для того, чтобы предъявить его миру в красивой литературной обёртке, а затем, чтобы показать, как отделить его от себя нынешнего и справиться с последствиями пережитого. При этом наличие в миллениальских текстах травмы не первостепенно, но, увы, неизбежно. Вся наша жизнь отчасти определяется травмами, что само по себе не новость. И если письмо о коллективных травмах в России социально одобряется, то литература травм личных почему-то пока под вопросом. Не отголоски ли это нашего общего прошлого, когда личное во всём уступало коллективному?
Некоторые критики уже пророчат только появившейся в России литературе травмы скорый конец, ведь любой яркий тренд, по их логике, вскоре становится ширпотребом, теряет в качестве, становится объектом насмешек. При этом западные издательства печатают книги о личных травмах уже много лет (это истории об абьюзивных отношениях, взрослении в дисфункциональных семьях, материнстве и депрессии), и их продолжают читать. Вдобавок в 2022 году Анни Эрно получает Нобелевскую премию, что мало похоже на деконструкцию и забвение литературы травмы.
В то же время часть общества российского идёт схожим путём: вступает в эру новой искренности. Эгоизм и увлечённость личным, за которые так ругают писателей-миллениалов, продолжают переползать в литературу, так как она всеядна: впитывает и осмысляет то, что занимает общество. Литература травмы в России всё еще находится на самой ранней ступени развития: писатели еще только ищут способы нарративизации травматических событий. Было бы странно в век личных брендов и блогов, самопознания, саморазвития и психологической образованности обнаружить полное отсутствие отражения этого в литературе.
Почему же современный читатель тянется к текстам о личной травме? В своём эссе о депрессии из сборника «Это не то» философ Оксана Тимофеева рассуждает: «После распада СССР душевную боль было принято скрывать — как и любое проявление слабости. В девяностые следовало быть или казаться крутым, выносливым, живучим»[2]. Однако странно продолжать кипятить бельё в эмалированной кастрюле после изобретения кислородного отбеливателя. Как странно, например, «лечить» психические расстройства отрицанием, алкоголем или стигматизацией. Не из этого ли печального времени до нас по-прежнему доносятся отголоски незыблемых правил: мусор должен оставаться в избе, любых мать и отца надо чтить, а о мёртвых либо хорошо, либо никак? Выросшие с этими установками, мы с трудом разворачиваемся в сторону рефлексии и склонны осуждать за неё других, выдавая проговаривание травматичного опыта за слабость духа. При этом многим из нас безумно интересно видеть чужие способы проживания травм, так похожих на наши собственные, читать истории ровесников и сравнивать их ощущения со своими.
Сегрегация современного российского общества в связи с усилением продвижения традиционных ценностей (в числе которых и неприятие «слабости духа») достигла своего пика. Нежелание принять литературу травмы — это нежелание признать важность самого существования травм, принять авторов, которые не просто разбираются в себе, но борются с последствиями наших коллективных несчастий. Частная травма — это вершина пирамидки травм общественных: сложной жизни в 90-х, бедности, бытового алкоголизма, военных конфликтов, терактов нулевых и десятых и так далее. Таким образом, отмена литературы травмы — это отмена неудобного прошлого на фоне нынешнего возрождения-изобретения новой «национальной традиции», в которой позиция силы, расчеловечивание оппонентов и нечувствительность к чужой боли выступают одними из главных составляющих.
Бытует мнение, что если русская народная травма остаётся актуальной и сотни лет спустя, то травма личная — это не более чем проявление вопиющего эгоизма, бесконечный поиск виноватых, «нытье тридцатилетних». При этом логика не может не подсказывать, что травма индивида — прямое следствие травмированности общества, в котором он вырос и сформировался. Здоровое общество, помимо сильных своих сторон, должно замечать и слабые, а не отмахиваться от них, игнорируя слона в комнате. Именно так работает литература травмы: ощупывает слона со всех сторон и подмечает его изъяны, рассуждает, как он попал в эту комнату и как теперь его увести, чтобы не разрушить то, что в комнате ещё осталось. Пока же общество делает вид, что замечать собственные травмы — удел слабаков, сор прорастает в избах, отравляя жизнь не только нам самим, но и тем, кто будет после нас: ведь каждое новое поколение ранится о предыдущее.
Литература травмы предлагает не бессмысленное самобичевание, не поиск виноватых, а примеры выхода из замкнутого круга личностных неудач, показывает, как может выглядеть признание проблем, и предлагает варианты их решений. Главное достоинство таких текстов — внесение ясности и переосмысление того травматичного опыта неопределённости, в которой формировался и автор, и его потенциальная аудитория. К тому же автор в литературе травмы не всезнающий рассказчик. Десакрализованный нарратор — это обычный человек, говорящий с читателем на одном языке. Тексты современников, имеющие автобиографические черты, проще приложить к своей ситуации: кажется, что авторский голос звучит именно по твою душу.
Говорят, что все романы о личной травме похожи, и возникает ощущение единой истории под разными обложками. На самом деле, говорящие просто не читают этих книг, в лучшем случае пролистывают, выискивая, за что бы зацепиться. Чтобы рассмотреть новое, нужно давать ему шанс. Но страх признать литературу травмы слишком силён. Он сродни страху признать уязвимость нормой жизни. Это напоминает мою первую реакцию на «Рану», когда ошеломляющая откровенность писательницы показалась вторжением в мои читательские границы. Но ведь именно благодаря этому вторжению, границы смогли расшириться.
Расчеловечить, обесценить и, в конце концов, запретить — это, как правило, основные методы борьбы с неудобными явлениями и персонами. Поставить крест на литературе травмы, однако, не получается: она живее всех живых. Пока мы видим в публичном дискурсе насильственные попытки повернуть литературу в русло, обратное индивидуализму, говорить о критике не приходится. Литература травмы, увы, встречена не только вдумчивыми аналитическими рецензиями, но и гневно-саркастическими статьями, авторы которых скорее нацелены на демонстрацию собственного превосходства, чем на разговор о важности явления. Остаётся надеяться, что это происходит лишь потому, что мир находится в состоянии нервного срыва, а часть общества временно укрылась от новых вводных в безусловно устаревшем, но таком уютном коконе понятных установок и убеждений.
19.12.2023
[1] Константин Комаров. О «пожароопасной белке» и потенциально бесконечной «повесточке» // Вопросы литературы №1 2023. — URL: https://voplit.ru/column-post/o-pozharoopasnoj-belke-i-potentsialno-beskonechnoj-povestochke/ (дата обращения: 17.12.2023).
[2] Тимофеева О. Это не то. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022. С. 131.
