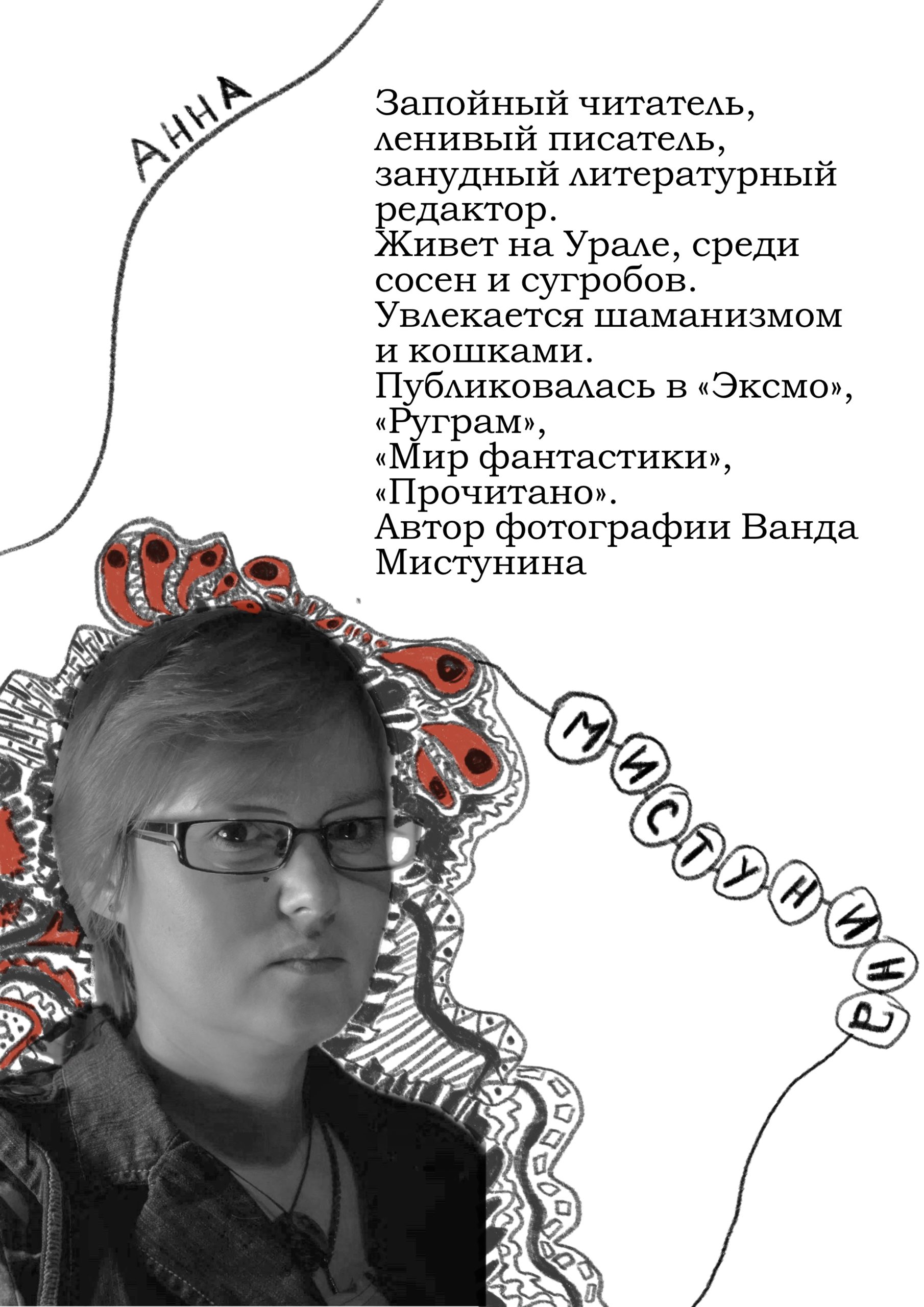
Вечер.
— Расскажу, коли будете слушать, — говорит небритый проводник, подбрасывая толстые поленья в общий костер. — А скептики брысь по палаткам и спать!
Десяток голосов вразнобой заверяют, что они не скептики. Олька молчит. Скептик она или нет? Плевать. Ей внезапно хорошо среди людей, она рада, что случай свел их вместе — на одну ночь, но больше и не надо.
— Врете небось, — проводник усмехается, но видно, что он просто набивает цену.
Его помощница, такая же худая и коротко стриженная в неброском камуфляже и удобных горных ботинках, дотягивается и легко шлепает его по затылку.
— Давай уже, рассказывай.
— Ну ладно. Только, чур, не перебивать! Об этом много кто знает, мало кто скажет, а уж кто скажет, те все по-разному. Я слышал эту историю от одного старика, что жил на краю Саратана, да помер…
Проводник замолкает и чешет затылок. В костре рассыпается горка поленьев, к небу летят искры — ало-золотые бабочки на фоне темноты. Туристы провожают их глазами, а Олька смотрит на туристов. Она полюбила смотреть на людей. Они кажутся похожими: небритые мужчины в куртках цвета хаки, усталые, но спокойные женщины. Хорошая группа. Олька повидала всяких за эти недели на Алтае — неужели их прошло всего три? А кажется, целый год.
Все молчат, не торопят продолжать историю. Наверно, привыкли уже к этим театральным паузам. И проводник рассказывает дальше:
—…Да вот уж восемь лет как помер, дела-а. А из молодых никто не помнит, как оно там, по правде, было. Повезло вам, что меня-то встретили, ха-ха. Так вот история. К востоку от Саратана, за перевалом Калкак и еще дальше, в глуши, куда просто так не доберешься, — а точнее, вам никто не скажет, даже я. Есть там, говорят, пещера, но на картах она не отмечена, вроде как и нет ее. Но есть. Размером как большая палатка, вон та, желтая. Найти ее трудно, и даже кто раз нашел, потом не сможет, как будто прячется она от глаз, пещера-то. Только кому очень уж надо, у кого желание такое, что даже смерть побоку, сможет найти. Да не просто так — прежде поскитается в горах, может, месяц, а может, год. Проверяют это его так. Точно ли больше всего на свете он хочет. И скажу вам, таких, кто замерз или сорвался в пропасть, а то и ноги поломал и помер без помощи — больше, чем таких, кто ее нашел.
— Да что в пещере-то? — не выдерживает кто-то из туристов.
— Кости, — театрально шепчет проводник.
— Чьи?
— Девочки, — отвечает проводница прежде своего спутника. — Которая то ли умерла от голода, то ли замерзла насмерть.
— Жуть какая, — говорит одна из туристок.
— Не жуть, а легенда. Давай я сама расскажу? Как-то у тебя невнятно получается.
Проводник насупился, но не спорит. Женщина продолжает его рассказ:
— Рассказывают, что в той пещере давным-давно умерла юная девушка, не дождавшись того, кто назначил ей встречу в горах. Лет пятьсот назад или тысячу. Где-то говорят, что это был ее отец или брат, но я больше верю, что любимый. Он обещал, что придет и заберет ее, что они всегда будут вместе, что он позаботится о ней. Девушка ждала, а он не пришел. Она могла спуститься обратно в деревню, где был ее дом, но не захотела, потому что любила и верила так сильно, что даже смерть не могла ее остановить. Она умерла в той пещере, и ее кости высохли прежде, чем их впервые нашли.
Повисает молчание. Его перебивает проводник:
— Ты главное не сказала. Померла-то она не просто так, а от желания своего, что больше жизни. А в этих местах кто не просто так помер, совсем-то не уходит, хоть верьте, хоть нет. Вот и девчонка та стала духом. Желания исполняет, коль найдешь ее. Да не все, а только истинные. Такие, чтоб важнее всего мира и самой жизни. Если кто хочет чего вот так сильно, идет в горы и ищет пещеру, бывает, месяц ищет или год. А может и не найти, пещеру-то. А коль найдет, должен он приношение оставить прямо там, на камне, где девчонки той кости. И ночевать у входа в пещеру, но не внутри, внутри-то святое место. И ночью придет к нему девчонка, и про все спросит, прямо в самое сердце глядит и все выведает. И коль желание-то истинное, важнее мира и самой жизни — исполнит.
— Любое желание? — не выдерживает Олька.
— Любое, — откликается проводница. — Но только самое сильное. Серж, расскажи им про Славика.
— Про Славика… Ну есть такой мужик, каждое лето приезжал, ходил с нами. Че-то медитировал малость, а так нормальный мужик, из Подмосковья, мастерская у него там по мотоциклам. А потом беда случилась. Дочка его попала в аварию, восемнадцать лет. Кома. Врачи сказали — мозг поврежден сильно, ничего не сделать. Коль не помрет, останется растением, а лучше бы померла. И Славик… Приехал он сюда. Выспросил у меня все про ту историю и рванул в Саратан. И ушел в горы. Один, с рюкзаком. Долго я про него не слышал. А потом мужиков встретил оттуда — видели, говорят. Пару раз был — обросший, грязный, глазищи бешеные… но точно он. Закупался в магазине и обратно. В горы. Искать, значит. Тронулся умом мужик совсем. Ясно было, что помрет зимой, я уже думал искать, что ли… да где там искать. И все. К весне помянули мы его с мужиками, кто знал, думали, конец.
А на будущий год приехал он. Живой, довольный весь. Дочь у него живая. С головой все нормально, и с руками, одно что в инвалидном кресле ездит. Но, говорит, не навсегда это, какая-то шибко умная йога у них там, чтобы, значит, все восстановилось. Вот так.
У Ольки стучит сердце, сильно, больно, прямо у горла. Кто-то из женщин — она не смотрит, кто — спрашивает:
— Получается, нашел он ту пещеру? И мертвую девочку? И она ему помогла?
— Выходит, помогла.
Туристы молчат, обдумывают историю, только с дальней стороны костра двое тихонько спорят о своем. Олька утыкается лбом в колени. Год назад посмеялась бы и забыла. Полгода назад и слушать бы не стала, не до того было…
Позже, когда туристы расползаются по палаткам, тихонько подходит к проводнице. Касается рукава.
— Можно я вас спрошу?
Та пожимает плечами:
— Да запросто, спрашивай.
— Где эта пещера, с мертвой девочкой? Я запомнила название — Саратан. А там? В какую сторону идти?
У проводницы с лица сползает улыбка.
— Ты ведь не из нашей группы?
— Нет.
— С кем? Кому сказать, чтоб силком тебя домой уволок, пока не убилась по своей дури?
— У меня рак, — просто говорит Олька. — Неоперабельный. Несколько месяцев или до полугода, сказали, осталось. Потом резко станет плохо и… все. Мне все равно уже, я сюда приехала, чтобы… чтобы не в больнице ждать. Скажите, где искать пещеру?
* * *
Утро.
Дребезжащий, как жестяная банка, уазик наконец останавливается, но Олька всё еще будто слышит тарахтение и железный скрип, и мир перед ее глазами трясется и подпрыгивает в дорожной тряске.
— Приехали! — говорит водитель и тянется назад за Олькиным рюкзаком.
Приятель Сержа-проводника, такой же худой, небритый и хитро-улыбчивый, он весь покрыт узорами татуировок. Индийские и китайские иероглифы вперемешку со скандинавскими рунами густо покрывают его шею, плечи, бугристые от вздутых жил руки и уходят под полосатую майку-тельняшку, не прекращая своего хаотичного танца. Никакого смысла в письменах нет, но смотрится, надо признать, сногсшибательно. При первой встрече Олька так растерялась, что забыла поздороваться.
Она принимает рюкзак, кивает:
— Спасибо вам!
— Серж сказал тебя не отговаривать. Так надо, сказал. Но, бля, стремно мне. Хоть сам с тобой иди, дык работа…
На секунду Олька представляет, как легко и нестрашно было бы ей с таким спутником. Улыбается:
— Вы и так очень помогли! Спасибо, честно, я знаю, что делаю!
— Ни фига я не знаю, вру ведь, разве не видно? — добавляет она шепотом, когда УАЗ, взревев мотором и обдав ее бензиновой вонью, разворачивается и уезжает прочь.
Олька остается одна. Снова. Привычно. У ее ног рюкзак, до отказа набитый пакетиками сублиматов мяса и овощей — татуированный друг Сержа привез их целый мешок. Из собственных Олькиных запасов остались печенье, какао и шоколадки. Теплый спальный мешок проводники одобрили, а тяжелую палатку, посовещавшись, забрали и дали взамен совсем маленькую, надувную, весом всего в полтора килограмма — Олька и не знала, что такие бывают. К палатке прилагалась огромная и очень толстая куртка: «Надевай поверх своей, если что». А еще — малюсенькая газовая плитка и четыре баллончика: «Газ экономь, это на крайняк!»
В кармане ее собственной куртки — самый ценный подарок. Олька достает ее, разворачивает — подробную карту местности. Красным фломастером на ней отмечена точка за перевалом, где ей предстоит свернуть с нахоженной тропы и идти… неведомо куда.
— Точнее никто не скажет, — переглянувшись, сказали ей тогда проводники.
Олька улыбается, вспоминая их — своих неожиданных друзей. Улыбается пыльной дороге, монументальным зеленым колоннам по обе ее стороны — как ворота на въезде в село. Безлюдной поутру улице. Взгляд притягивают, маня и пугая, громады горных вершин.
«Я могла бы лежать в больнице», — говорит себе Олька и приседает, втискиваясь в лямки рюкзака.
Выпрямляется. Ох… Ну ничего. Потихоньку.
* * *
Вечер.
Камни дышат холодом, не нагрелись за день. Между Олькиной палаткой и тропой, где днем она трижды встречала шумные группы туристов — поросль невысоких елок. С другой стороны шумит, торопится горная речка, ее серебристый голос ни на миг не оставляет Ольку одну. Толстые ветви засохшей осины стали костерком — ярко-красной точкой в сердце темноты. Весь день над головой клубились облака, но к ночи раздуло, и крупные бриллианты звезд вывесились в небе, как в витрине ювелирного. Выбирай любую, желание покупателя закон… Когда-то ведь мечтала себе кольцо с бриллиантом и свадьбу, как у лучшей подруги Машки. И даже знала — с кем. А потом…
Вода вскипает. Олька прихватывает рукавом горячий маленький котелок, наливает в кружку. Размешивает пахучее какао. Неосторожный глоток обжигает рот, и кружка отравляется на камень — остывать.
В костре тихонько трещат и пляшут огоньки. Кажется, что они живые, дружные, что им весело там, в горячем алом мире. Интересно, есть такой мир на самом деле? Должен быть. Олька даже помнит название — саламандры, вот кто живет в огне. Может быть, после смерти она станет саламандрой? Жаркой, яркой, огненной, никогда не одинокой, вечно танцующей среди тех, кто на нее похож.
Так и было раньше, в мире до болезни. У нее были друзья, и однокурсники, и веселье до послезавтрашнего утра. Ее считали простой и веселой, ее любили. И, впервые узнав о диагнозе, она не осталась одна — рядом были дорогие люди, ее держали за руки, обнимали, поддерживали. И любимый парень — был. Сколько ночей он просидел рядом, держа за руку, пока Олька приходила в себя от известия? Вместе искали хороших врачей, вместе читали толстые медицинские журналы. Лучшая подруга вышла на германскую клинику: новый курс лечения, вероятность семьдесят процентов, но все-таки… Сумма нужна была астрономическая — подруга открыла в интернете сбор. Да, тогда Олька не была одна.
Но время шло. От суммы собралось меньше половины, четыре банка отказали в кредите. Банковские работники, узнав о диагнозе, неловко отводили глаза. Подруга забеременела и спешно готовилась к свадьбе. Олька рада была отвлечься счастливыми хлопотами. Но стоило ей войти в комнату, смех стихал. В сочувственных улыбках не было раздражения, нет! Олька сама поняла, что ее бритая голова плохо сочетается с кутерьмой, где списки гостей перемешаны с моделями детских кроваток, фасонами платьев, веселым перебором имен — а если девочка, то Святослава или Василиса, а если мальчик…
Никто не говорил Ольке, что она бросает на праздник тень, будит не к месту плохие предчувствия. Сама так решила. Сама отошла в сторону, отстранилась и… никто не заметил.
Через месяц, опять сама, бросила парня, устав смотреть на его виноватое беспомощное лицо. Тот хотел ее вернуть — но не слишком старался.
Универ она бросила еще раньше. Как-то резко измельчала в ее глазах мечта о карьере юриста, да и сидеть на парах с приступами тошноты — побочным эффектом химии — то еще удовольствие.
К моменту, как стало ясно, что лечение результата не дало, и все, что могут предложить врачи — поддерживающая терапия, Олька была решительно и бесповоротно одна. У нее оставались деньги от того неудачного сбора. Она отказалась от новой госпитализации, провела неделю с мамой и рванула блаблакаром на Алтай. В горы. Пока еще может сама решать, где и как проводить последние дни.
Остывшее какао приторное и землистое на вкус. Олька плюется и выплескивает его на землю.
* * *
День.
Такой пасмурный, что не поймешь, то ли уже темнеет, то ли еще не рассвело. Видно всего на пару шагов, дальше сплошной белесый туман. Рюкзак полегчал — должен был полегчать, ведь в нем почти не осталось еды. Почему же кажется, что он набит камнями? Большими серыми камнями, как эти, скользкие, каменная река впереди и сзади, и кто ее знает, сколько еще она тянется там, в тумане. Олька пробирается по камням, тяжело дыша, и думает только о тяжести рюкзака и еще о том, как неудачно было бы сломать ногу. Свернуть некуда, с обеих сторон, похожие на развалины великанского города, поднимаются скалы. Если бы не туман, Олька нашла бы пролаз и ушла в сторону, отыскала бы другой путь. Если бы не туман и не магнит в груди, что тянет ее куда-то уже много, много дней. Заставляет сворачивать с тропы в бездорожье, карабкаться по крутому склону, пробираться через заросли колючек. Она давно и безнадежно заблудилась. Но с утра и до вечера, и даже ночью во сне она чувствует это — как будто ее тянет и подгоняет к какой-то неизвестной цели, как будто у нее с этой целью физическая связь. Как будто в грудь ей вставили магнит, и далеко впереди ждет его вторая половина. И пока не дойдет, Олька не сможет остановиться.
Она не помнит, когда впервые его ощутила и почему решила слушаться. Она слишком устала и слишком слаба, чтобы думать о таком. У нее болит все, болит она сама, на ногах ее держит только притяжение магнита и еще страх — страх остаться здесь, в тумане, одной навсегда.
Когда больше не остается сил идти, Олька падет и отдыхает там, где упала. Не глядя, залезает в рюкзак, нашаривает что-то сухое и жует, запивая остатками воды из бутылки. Вкуса не чувствует. О воде можно не думать: здесь всюду ручьи. О еде… В последний раз она зажигала газ и ела горячий суп из сублиматов несколько дней назад.
Воспоминания вызывают не голод, а тошноту. Ольку долго и мучительно выворачивает на серые камни. Когда рвота кончается, она отодвигается обратно к своему рюкзаку и замирает, положив на него голову. Туман окутывает ее как холодное белое одеяло.
Проходят часы, прежде чем он отступает и в просвете облаков появляется выцветшее до белизны солнце. Олька просыпается, дрожа от холода. С трудом встает и взгромождает на плечи рюкзак. Медленно, перебираясь с камня на камень, идет дальше.
* * *
Вечер.
Иногда она бредит — так кажется ей самой. Разве этот парень, веселый, насмешливый, в широкой мексиканской шляпе, ее новый друг и спутник последних дней — настоящий? Почему тогда он то идет рядом, болтая о какой-то ерунде, то вдруг исчезает? Почему Олька никак не может запомнить его имя, и каждый раз, встречая, знакомится заново? А даже если он — настоящий, то рыжая длинноухая рысь возле его ноги — уж точно галлюцинация.
Вчера Олька отдала рыси последний пакет сублиматов. От печенья рысь отказалась, и Олька доела его сама. Палатку она бросила давно, по совету веселого парня из бреда оставила на месте одной из ночевок. Там был след костра, напиленные бревна и навес из пленки. Парень — как же его все-таки зовут? — сказал, что там часто ночуют туристы, палатка точно им пригодится. И газовая плитка — все равно баллончики к ней закончились. И котелок — что в нем теперь готовить? В рюкзаке остался спальник, запасная куртка, аптечка, разряженный телефон, фонарик и бутылка с водой. И туристская пенка сверху. Пенку парень тоже уговаривал бросить, но Олька не послушалась.
Рюкзак теперь легкий, но ей все равно тяжело. Она бредет вдоль каменной стены, местами зеленой от ползущего вверх можжевельника, местами — лысой и разноцветной от лишайников. Под ногами стелется незнакомая кудрявая трава. В десяти шагах по другую сторону от скалы — обрыв. Пологий склон, что привел ее сюда, остался далеко позади. Как и где она сможет спуститься, Олька не знает.
Далеко за обрывом видны темные вершины, и тучи, надетые на них бугристыми пузами, и закат, красящий тучи в темно-багровый. Небо над головой темнеет слишком быстро для наступления вечера. Скоро хлынет дождь.
И не просто дождь — Олька опасливо смотрит вверх. Тучи все ближе, они спешат прямо сюда, как стадо сердитых небесных слонов. Ой, мамочки…
И Мать всех гроз обрушивается на землю сплошной водяной стеной, треском и грохотом, хлещет ее бичами молний, рвет на части. Темнеет мгновенно, от вспышки до вспышки — непроглядная темь. Вмиг промокшая Олька, от испуга забыв о слабости, бежит вдоль скалы, не видя, спотыкается, шарит перед собой руками, кричит, глотает воду — и вдруг рука не находит опоры, скальная стена расступается, и Олька всем телом проваливается в темноту пещеры.
Встает, застонав — здорово приложилась коленом и локтем. Вспышка молнии выхватывает из тьмы плоский, похожий на ложе, камень впереди и на нем — человеческие кости в остатках истлевшей одежды. Вокруг, жутким обрамлением — ржавые кольца, монетки, чашки и обрывки ткани. Две банки сгущенки и тронутый ржавчиной мобильный телефон.
Олька замирает, еще не понимая. Новая вспышка — и она без сил опускается на каменный пол. Размазывает по мокрому лицу слезы. Она пришла.
Гроза понемногу стихает, как будто выполнила свою задачу и может идти домой. Небесные слоны разбредаются кто куда. Темнота остается, но теперь она обычная, ночная. Выглянув наружу, Олька видит иссиня-черное небо и огромные, как электрические фонари, звезды.
В рюкзаке не находится подходящего дара — ни еды, ни украшений. Олька оставляет на камне фонарик, комплект запасных батареек, разряженный телефон и последние сухие носки. Сидит рядом, кутаясь в запасную куртку, до глубокой ночи, ждет, сама не зная, чего. Но слышит лишь сухую тишину.
Соседство с древними костями не пугает: смерть давно уже стала ее привычной спутницей. Но все-таки Олька не решается ночевать в пещере. Раскладывает спальник снаружи, на узком сухом участке под козырьком нависшей скалы. Залезает в него и долго стучит зубами, замерзшая, голодная, обессиленная. Не замечает, как проваливается в сон.
* * *
Ночь.
Ее будит треск костра. Олька открывает глаза. Нет, не показалось. Перед входом в пещеру пляшет огонь; сложенные горкой сухие дрова почти не дают дыма, но к небу то и дело поднимаются снопы искр. Олька пытается вспомнить, видела ли она поблизости деревья, но, конечно, не может.
У костра сидит девочка. Олька видит ее отчетливо в пляшущем свете: худые до прозрачности руки, тонкие пальцы подкладывают в огонь новые ветки, босые ноги на холодных камнях. Рваная накидка на плечах — не то остатки плаща, не то просто старое одеяло. Растрепанные светлые волосы не достают до плеч, золотятся от пролетающих искр. Тонкое треугольное личико серьезно и грустно, но вот девочка встречается с Олькой взглядом и робко улыбается.
Сколько ей лет, пятнадцать? Тринадцать?
— У меня так давно не было гостей, — говорит девочка. — Привет!
— Привет, — шепчет Олька. — Ты мне снишься?
Девочка пожимает одним плечом.
— Можно и так сказать. Мне здесь нечем заняться, только сниться и вспоминать. И ждать. Редко кто-то приходит. Ты за желанием пришла, да?
— Да…
На миг кажется — по ее лицу пробегает грусть, но тут же девочка улыбается и дружелюбно машет рукой:
— Садись к костру, холодно же! Я его нарочно для тебя развела. Ты ведь меня не боишься?
Олька не боится. Она выпутывается из спальника и садится у огня, вытягивает к нему руки. Костер настоящий, жаркий, он мигом выгоняет из ее тела холод, сырость и остатки сна. Девочка одобрительно кивает и ворошит ветки. Олька видит ее боковым зрением, совсем рядом — не призрак, не прозрачную тень. Живую девочку, исхудавшую, грязную, оборванную и веселую. Можно протянуть руку и коснуться ее, но Олька, конечно, не смеет.
— Теперь ты должна мне рассказать о себе, — девочка ловит Олькин взгляд и смущенно поясняет, — правила такие. И еще мне интересно, по-правде интересно. Ко мне так редко приходят!
— Я… даже не знаю, с чего начать.
— А хоть с чего! Мне всё интересно.
— Ладно… Меня зовут Оля, мне двадцать лет. Я… обычная, на самом деле. Живу в Ижевске, учусь… училась на юриста. Музыку лю… любила. Книжки. Собак.
— А почему любила? Больше не любишь?
— Я…
И Олька рассказывает все. Как будто прорвало — так откровенно она не говорила ни с кем. Диагноз. Лечение. Страх. Неудача, смущенные лица врачей. Друзья, постепенно уходящие от нее — в жизнь, в будущее, которых у нее нет. Мамины слезы. Страх, одиночество, снова страх… Любимый человек, с которым она рассталась по своей воле. Здесь, единственный раз, девочка перебивает:
— Почему?
— Почему я его бросила? Ну… чтобы он мог дальше жить, а не мучиться со мной. Он все равно ничем помочь не может, а…
— Почему он тебя отпустил?
— Я…
Костер трещит и пышет жаром, но Ольку трясет. Она обнимает себя за плечи, пытается не стучать зубами и не может. Девочка смотрит сквозь искры, в ее глазах недоумение:
— Когда кого-то любишь… Если даже можешь быть вместе всего один день… Одно мгновение. Просто увидеть ненадолго. Ради этого все что угодно сделаешь! А ты — ты ведь живая еще. Ты здесь. Почему же он тебя отпустил?
— Наверно…
Голос срывается. Олька молчит, медленно, с усилием расправляя сведенное судорогой тело. Поднимает глаза. Пересохшие губы выталкивают слова:
— Наверно, это не такая любовь, как… Как твоя.
К небу взлетают искры, одна из них падает Ольке на руку — мгновенный укол боли. Олька даже не вздрагивает. В глазах мертвой девочки крошечными огоньками блестят слезы.
— Тогда это не любовь.
— Нет. Не любовь.
Почему-то от этого признания становится легче. Олька потирает обожженную руку, отводит глаза. Простыми короткими словами завершает рассказ.
— Чего ты хочешь? Какое твое самое сильное желание, такое, что важнее всего мира, самой жизни?
Олька знает ответ, знает, что для нее важнее всего мира. Не знает только, что значит — важнее самой жизни. Ведь она и хочет всего-то — жить! Вот ее желание, и оно важнее всего мира, важнее этой дурацкой любви, будь она неладна, важнее…
Она не надеялась, не мечтала о чуде. Приехала в горы — умирать. Незнакомый проводник походя заразил ее надеждой, и ради этой надежды Олька бродила в горах так долго, что потеряла счет дням, отчаялась, ослабла, немного свихнулась — и вдруг нашла. Чудо свершилось, посрамив всех скептиков мира, осталось протянуть руку, чтобы взять. Свое спасение, свою жизнь. Из груди рвется крик, стон, хрип, он слишком сильный, надежда слишком страшна, Олька не может сказать это вслух…
Она говорит:
— А ты? Можно мне узнать твою историю? Ведь мою ты теперь знаешь.
Девочка вздрагивает от неожиданности. Ольку пробивает мгновенным испугом: она все испортила! Но девочка улыбается:
— Меня еще никто об этом не спрашивал!
— Я спрашиваю. Я знаю… мне говорили, что ты ждала кого-то в этой пещере, а он не пришел. И ты ждала, и отказалась возвращаться домой. Пока не… умерла. Это правда?
— Почему — ждала? Я и сейчас его жду. И всегда буду.
От этих слов, таких спокойных и будничных, пробирает ужасом.
— Но ведь он… он не пришел?
— Он не смог, — спокойно объясняет девочка. — Погиб. Я тогда этого не знала.
— Но ты могла уйти? Вернуться домой? И осталась бы жить?
— Осталась бы, да.
— И ты… сама выбрала это? Ждать, пока не умрешь? Почему?
Девочка уже знакомо пожимает одним плечом.
— Я его люблю. Когда любишь, ждешь сколько угодно, даже после смерти.
— Я не понимаю! Если бы ты вернулась домой, и он бы потом все-таки пришел, а тебя нет. Разве бы он не понял? Разве он не мог потом найти тебя дома?! Если уж он так тебя любил! Зачем, зачем такая дурацкая жертва?! Думаешь, он хотел бы, чтобы ты… вот так…
Олька соображает, что кричит на девочку, кричит и машет руками, а та смотрит и кутается в одеяло — древняя, мертвая, юная, заплаканная, настоящая…
— Прости, меня, пожалуйста, прости, прости, — шепчет Олька. — Я сама не знаю, что на меня нашло. Прости за мои слова!
Вытирает слезы рукавом, повторяет:
— Прости…
— Если бы я вернулась… Если бы пришла в деревню, а потом он пришел бы за мной, они бы его убили. Они за ним охотились… долго. Я не могла вернуться домой.
— Прости меня…
— Ты меня не обидела. Я рада, что ты спросила. Ты добрая. Ко мне всякие люди приходят. Я должна выполнить одно желание, если оно настоящее, важнее всего мира и жизни. Так получается, когда умираешь, не выполнив свое — становишься духом и исполняешь чужие. Такое правило, и неважно, что приходят не все хорошие, все равно приходится исполнять. А твое я выполню с радостью.
Олька сглатывает застывшие в горле слезы. Закрывает глаза, но все равно видит худенькое треугольное личико под шапкой растрепанных светлых волос. «Когда любишь, ждешь сколько угодно, даже после смерти». Каждый день. Каждую ночь. Пятьсот лет или даже тысячу…
Так, не открывая глаз, спрашивает:
— Ты все что угодно можешь выполнить? Любое желание? Если оно настоящее и важнее всего вот этого, да?
— Да.
— Только одно или можешь больше?
— Одно. Самое-самое…
— Хоть о чем, о будущем… о прошлом тоже?
— Хоть о чем.
Только теперь Олька открывает глаза и смотрит девочке в лицо. Говорит отчетливо, как будто все решила заранее:
— Я хочу, чтобы прошлое изменилось. Чтобы ты не умерла здесь. Чтобы тот, кого ты ждешь, не погиб, а вернулся за тобой. Чтобы… чтобы вы были счастливы. Это мое самое сильное желание, оно для меня важнее всего мира и важнее жизни. Клянусь.
Тишина. Звезды над головами. Жизнерадостный треск костра. Долго-долго Олька и мертвая девочка смотрят друг другу в глаза.
* * *
Утро.
Капли дождя на лице будят Ольку. Она лежит в спальнике под козырьком скалы. Рядом темнеет провал пещеры, и перед ним — черные, остывшие угли костра.
Она не хочет заходить в пещеру, проверять, на месте ли кости. Боится оскорбить чудо недоверием. Да и — какая разница? Если костей нет, разве это что-то докажет? А если они там — опровергнет?
Завтракать нечем, оставаться здесь незачем. Скатав отсыревший спальник и уложив его в рюкзак, Олька ковыляет обратно — искать дорогу вниз.
* * *
День.
— Олька. Ты…
Олька поднимает глаза, но всё еще держит губами трубочку. Большой стакан колы и целая тарелка вреднющей в мире картошки-фри — она совсем перестала соблюдать диету.
Машка. Бывшая лучшая подруга. Та самая, на чьей свадьбе Олька так и не стала свидетельницей. Интересно, кем ее заменили в последний момент?
А, ладно. Неинтересно, вообще-то.
На Машке джинсовый комбинезон с лямками, как специально придуманный, чтобы подчеркивать беременный живот. А живот и так — ого-го, и как она, интересно, с ним двигается? Тяжело ведь! Вон как она стоит — в раскорячку, одной рукой опирается на спинку стула, другой придерживает живот и смотрит так, будто вот-вот разревется.
— Правда ты…
— А ты, что ли, думала, не приду?
Олька отставляет стакан и засовывает в рот ломтик картошки. Она не так уверена в себе, как притворяется. С вечера, как получила Машкино сообщение, не находила себе места. Потому и пришла на полчаса раньше — посидеть одной, собрать в кучу мысли. Но картошка с колой начисто отбили охоту переживать. Божечки, до чего же это вкусно, и как она могла забыть?! Ведь когда-то это было их любимое с Машкой место. Сколько тонн этой картошки они сожрали со старших классов? Кто-то даже говорил, что от неправильной еды Олька и заработала рак.
— Я, — Машка все-таки всхлипывает и по-слоновьи грохается на стул. Тот с честью выносит испытание. — Я когда увидела тебя в сети… думала, страницу взломали или мама… думала… Оль…
Она ревет, всхлипывает и размазывает по лицу тушь. На них смотрят — к счастью, в это время здесь почти пусто. Олька осторожно тянется через стол к ее руке:
— Эй… Я ведь тут! Ну Маш.
Раньше чуть что обнимались, но сейчас неловко — из-за Машкиного огромного живота, из-за всего, чего между ними не было в эти месяцы. Олька не держит обиды, нет. Она все понимает. Но обнимать бывшую подругу ей не хочется.
— Я такая дура! — всхлипывает Машка. — Такая глупая дура! Оль, ты… ты прости меня.
— Ну хватит, а? Ведь все же хорошо. Давай… расскажи лучше, как ты. Скоро маленький будет, да? Или маленькая? Как назовешь, решила наконец?
И тут Машка принимается реветь по-настоящему, в голос, подвывая и раскачиваясь на стуле. К ним кидаются с разных сторон — кассир и еще какие-то люди. Олька вскакивает, машет на них руками — уйдите! Обнимает-таки ревущую Машку за плечи.
— Принести воды? — шепчет ей в ухо кассир.
Олька кивает, и парень бежит обратно к стойке. Олька неловко гладит короткие Машкины волосы.
— Что случилось, Маш? Расскажи!
— Я от… отказала-алась ее уб… убива-ать! Все-ех послала! Олька, я не-е… не смогла! Я… Я так уста-ала!
Олька берет протянутый стакан, благодарно кивает кассиру. Почти силой вливает воду в Машку. Та шумно глотает, всхлипывает:
— Спасибо…
— Расскажешь все по порядку? С ребенком что-то, да? Маш, ты только не плачь больше, нельзя тебе плакать, ну!
— Гыы… — у той выходит что-то среднее между смехом и всхлипом. — Я два месяца уже реву-у… А ты — нельзя плакать!
— Так. Если прямо щас мне всё не расскажешь, я вылью эту колу тебе на башку! Поняла?!
— Си… синдром Дауна-а… И порок сердца, и какая-то киста еще… Это все в комплекте идет, сказали-и-и… Они меня заставляли… искусственные роды, Оль! Я от… отказалась! Мне страшно-о… Но я… я не могу!
Олька сидит на столе, обеими руками гладит Машкину голову. Та уткнулась ей в колено, на джинсах растекается мокрое пятно слез.
Хорошие в этой пиццерии столы, крепкие, не пластик. И работники хорошие, понимающие. Другие бы давно их выпнули. А эти — ничего, собрались за стойкой аж втроем, смотрят. И посетители, все шесть, забыли про еду и смотрят, вот же бесплатный цирк!
— Маш. Давай пройдемся, а? Или ты есть хочешь?
— Не… не хочу…
— Пошли!
Олька крепко держит Машкину руку. Идут по набережной, мимо скамеек и фонтанов, отключенных уже, хотя погода сегодня совсем как летом. Мимо сдутых батутов и неработающих каруселей, мимо старушки, кидающей семечки стае нахальных серых голубей.
Машка говорит и говорит — как будто все эти месяцы ждала этой возможности. Про врачей и бесконечные обследования, и как профессор с белой бородой кричал на нее в кабинете, как называл дурой безответственной, как на нее кричала свекровь, и муж с тех пор едва разговаривает, как трудно и страшно ей одной против всего мира, и не с кем поговорить, и как она всё равно больше всего на свете любит свою маленькую… В этом месте Машка опять срывается в рыдания.
Олька усаживает ее на скамейку, садится рядом. Обнимает огромную, как воздушный шар, талию. В груди поднимается ветер, знакомый суровый ветер алтайских гор. Он ревет, завывает в ушах, рвется из горла словами, удержать их нет никакой возможности. Губы сами собой исторгают звуки:
— Скажи, какое твое самое большое желание?
Машка удивленно замолкает. Потом шепчет:
— Чтобы она родилась здоровой…
— Ты хочешь этого больше всего на свете?
— Да, конечно! Почему ты спрашиваешь?
— Это для тебя важнее всего мира и самой жизни?
— ДА!
— Хорошо. Сбудется.
Ветер стихает, Олька остается пустой, как сдутый шарик. Ее трясет, но времени приходить в себя нет — у Машки огромные, черные от ужаса и надежды глаза. Олька шутливо толкает подругу в бок:
— Все будет хорошо, Маш. Верь мне. Не спрашивай, откуда я знаю. Твоя дочка родится здоровой. Вот увидишь. Можешь плюнуть этому профессору прямо в очки.
Машка отодвигается и смотрит ей в лицо. Долго, очень долго. Молчит. Слезы медленно сохнут на покрытом разводами туши лице.
Олька не отводит взгляда.
— Я знаю, — шепчет она наконец. — Просто поверь, Маш… Я это точно знаю…
* * *
Вечер.
— Что это было, Олька? Что ты наделала? Что ты, мать твою, творишь?!
Она кричит на свое отражение, стоя в обшарпанной ванной своей временной квартиры. Квартиры, которую сняла, вернувшись с Алтая, самую дешевую, какую нашла, чтобы не жить — доживать. И вот на фоне облезлых грязно-зеленых с желтыми потеками стен, в надтреснутом зеркале — ее отражение в пушистом белом полотенце. Ее лицо, и даже сейчас, с ошалевшим взглядом и разинутым в крике ртом видно, как округлились за два месяца щеки. Еще бы — жрет все подряд, забив на медицинские диеты, на таблетки, на обследования…
— Что ты, твою мать, творишь?!
Нет, она не врала. Говоря с Машей, была не то что уверена — была как летящая в цель пуля, как приемник, транслирующий передачу. Ни вопросов, ни сомнений. И таким же тупым приемником вернулась домой, улыбалась, напевала что-то, счастливая. Наелась купленного по дороге мороженого и залезла под душ.
И только теперь, на выходе из душа, ее отпустило. Разом нахлынуло все. Как она вдруг потеряла рассудок, как делала и говорила такое, что не объяснить и не простить, ведь Машка… она же поверила, мать твою, поверила!
— Это не я, — шепчет Олька. — Это не могла быть я! Я себя не контролировала!
Обнимает себя за плечи, отражение расплывается от слез. Зажмуривается и стоит так долго-долго, пока дрожь не отступает. Затем открывает глаза и на долю секунды видит за спиной своего отражения еще одно. Худенькую светловолосую фигурку в старом одеяле на плечах. Видит ободряющую улыбку мертвой девочки, и вместо того, чтобы испугаться, успокаивается. Истерика отпускает так же внезапно, как началась.
В самом деле — чем ее еще напугаешь?
— Но как это понимать? Как?
«Я должна выполнить одно желание, если оно настоящее, важнее всего мира и жизни. Так получается, когда умираешь, не выполнив свое, — становишься духом и исполняешь чужие. Такое правило…» — шепчет в ушах то ли голос, то ли воспоминание.
— Но я не умерла! — кричит Олька. — Я не умерла, я… я здорова!
Полотенце падает на пол. Олька смотрит на себя, по-настоящему смотрит, впервые за эти месяцы. Мягкие покатые плечи, грудь, слишком большая для истощенного болезнью тела… впрочем, уже нет. Оно больше не кажется истощенным, даже ребер не видно. Кажется, она начала толстеть. Кажется, ей пора на диету…
Олька проводит руками по телу, от плеч до бедер. Когда она в последний раз ощущала боль и тошноту? Она смотрит на себя, прикасается к себе. Дергает отросшие мокрые волосы — они кудрявые, иначе уже скрыли бы уши.
— Я здорова… Но ведь ты сказала: одно желание, и я отдала свое — тебе! Спасибо тебе, спасибо, спасибо.
Зажмуривается, пытается уловить внутри себя отклик. Голос девочки. Почувствовать ветер…
И ветер приходит, шумит в ушах, течет по венам ледяным огнем.
* * *
Ночь.
Темные улицы с погасшими огнями домов, разбитые фонари, редкие тусклые вывески. Паршивый район, чтобы в нем жить, а умирать она больше не собирается. Олька идет медленно. Ветер в ушах выгнал ее из дому, но теперь стих, и она просто идет, дышит и ждет, сама не зная чего. Медленно втягивает воздух, так медленно, что успевает распробовать все его вкусы: мокрый асфальт, тающий привкус первого короткого снега, долетевшую из чьих-то окон жареную картошку с луком, и табачный дым, и бензиновые выхлопы автомобилей, и свежесть близкой реки. Выдыхает и вдыхает снова.
Слушает: откуда-то долетает музыка, откуда-то — звук семейного скандала, визгливый женский крик и глухой, угрожающий мужской бас. Ускоряет шаги и вдруг слышит всхлипы. Плачет ребенок, но не так, как ревут от каприза или чтобы добиться чего-нибудь от взрослых, — тихий, измученный всхлип отчаявшегося маленького человека. Олька вздрагивает и сворачивает на звук. В дыру в заборе неработающего черт знает сколько детского сада.
Плохое место. Здесь давно не играют дети. Городские власти никак не могут решить судьбу аварийного здания, а тем временем полуразрушенные веранды и старые качели стали приютом местных алкашей. Говорят, в здании ночуют бездомные. Ни один взрослый в здравом уме не сунется сюда ночью, но Олька протискивается в дыру в заборе, проходит немного по тропе и видит его — маленькую фигурку в широкой не по размеру куртке.
При ее появлении он не вздрагивает и не престает плакать. Мальчишка, лет семь или восемь на вид. Один. Олька осторожно подходит ближе, озираясь, но вокруг, похоже, никого.
— Эй. Что случилось?
И сразу, с горестным всхлипом:
— Малыш потерялся!
Олька не успевает ничего сообразить, а рука уже тянется к телефону: звонок в полицию, розыски пропавшего младенца… цепляясь за остатки здравого смысла, всё же уточняет:
— А Малыш — это…
— Кот! — отвечает мальчишка и принимается реветь громче.
— Тише, тише! Объясни получше. Где он потерялся?
— Из ок… окна выпал! А папа сказал, не пойдет искать этого пи… пидо… И меня не пустит! А я…
— А ты сам пошел искать? А мама… — Олька вздрагивает от собственной глупости, но мальчик объясняет:
— А мама в командировке!
— Так, — ситуация теперь кажется ясной. — И ты пошел сам искать кота? И давно ты уже ходишь один? Тебя папа, наверно, ищет!
— Не-е, — всхлипывает мальчишка. — Он пи… яный. Я ждал, пока он зас… нет.
— Еще лучше! Далеко до твоего дома?
Мальчик со всхлипом кивает туда, откуда Олька только что пришла:
— Там.
Олька решительно берет его за руку:
— Пошли! Здесь очень много плохих людей, понимаешь? Нельзя же… — но мальчишка отзывается таким ревом, что она замокает, не договорив. — Ну тише, тише! Слушай, давай поищем вместе твоего кота?
— Да-ва-ай! — теперь уже он цепляется за Олькину руку. — Я без него домой не пойду!
— Очень его любишь, да?
— Бо… больше всего на свете!
Олька замирает. Сердце больно стучит у самого горла. Да что ж ты будешь делать…
Ветер воет у нее в ушах, и собственный, чужой, неподвластный ей самой голос спрашивает:
— Больше всего на свете хочешь его найти?
— Да! — ревет мальчишка.
— Идем.
Не выпуская его руки, Олька возвращается к дыре в заборе.
— Жди здесь.
Оставив мальчика, идет вдоль забора наугад, в темные мокрые кусты, десять шагов, двадцать. Если… если это все правда, ей совершенно неважно, где искать.
Она садится на корточки, протягивает руки:
— Малыш…
И к раскрытой ладони с тихим мявом прижимается ушастая голова.
19.12.2023

